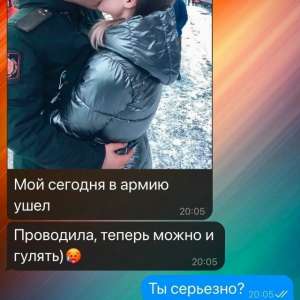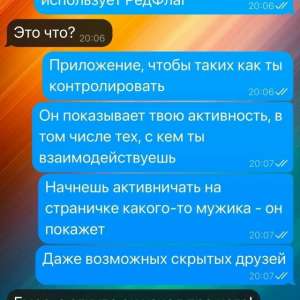πü£É –€―É–Ε –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β―ë ―¹ ―³―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ι: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―É ―²―΄ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι?¬Μ βÄî –Ε–Β–Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–Η–Μ–Α –Ζ–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―É!
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―É–Ε –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –Β–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―É ―²―΄ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι? –· –Ϋ–Α–Ι–¥―É ―¹–Β–±–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―É―é¬Μ, –Β―ë –Φ–Η―Ä ―Ä―É―Ö–Ϋ―É–Μ. –û–Ϋ ―É―à―ë–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―è―¹―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―ë–Μ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β. –û–Ϋ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤.
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Η, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ βÄî ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Β―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α. –ï―ë –≤–Η–¥–Β–Ψ ―¹ ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Β–Ι ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Φ―É–Ε ―É―à―ë–Μ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Β―¹–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Β–¥–Λ–Μ–Α–≥ –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Η, –Μ–Α–Ι–Κ–Η –Η ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É –Ϋ–Β―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–ù–Β –Ε–¥–Η―²–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Ι―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Β–¥–Λ–Μ–Α–≥.–Γ―¹―΄–Μ–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è―Ö πüë΅
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―É–Ε –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –Β–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―É ―²―΄ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι? –· –Ϋ–Α–Ι–¥―É ―¹–Β–±–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ―É―é¬Μ, –Β―ë –Φ–Η―Ä ―Ä―É―Ö–Ϋ―É–Μ. –û–Ϋ ―É―à―ë–Μ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―è―¹―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à―ë–Μ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β. –û–Ϋ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―¹–Β–±―è ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―è ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤.
–ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É―²–Ψ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Η, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ βÄî ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –£–Β―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α. –ï―ë –≤–Η–¥–Β–Ψ ―¹ ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Β–Ι ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β―ë –Φ―É–Ε ―É―à―ë–Μ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Β―¹–Α. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Β–¥–Λ–Μ–Α–≥ –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹–Κ–Η, –Μ–Α–Ι–Κ–Η –Η ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É –Ϋ–Β―ë –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨.
–ù–Β –Ε–¥–Η―²–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―é―Ä–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Ι―²–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Β–¥–Λ–Μ–Α–≥.–Γ―¹―΄–Μ–Κ–Α ―É–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Η―è―Ö πüë΅
–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
"–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ –Δ–Ψ―Ä―Ä–Η―Ö–Ψ―¹".
–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ Manuel Cabral Aguado Bejarano (1827 - 1891).
–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ Manuel Cabral Aguado Bejarano (1827 - 1891).
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
–ü–Α–Μ–Η―²―Ä–Α –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ –≤–Α–Φ–Η –ê–Φ―Ä–Η―²–Α –®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α!
–· –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Ϋ–Β –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Η –Ϋ–Β –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ–Β –Ζ–Α–Μ–Α –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α, ―É ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α¬Μ. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é, ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β ―²―É ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―ɬΜ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Α–Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è―é―² –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Β–≤, –Α ―²―É ―¹–Α–Φ―É―é ―²―ë–Ω–Μ―É―é, –¥―΄―à–Α―â―É―é ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―É, ―¹–Ω–Μ–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ –Ψ―Ö―Ä, ―É–Φ–±―Ä –Η –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ. –‰ –Β―â―ë βÄî ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³. –Γ–≤–Β―² ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ, –Ψ–Ϋ –≤―΄–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ: –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Η –±–Β–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α –Μ–±―É, ―â―ë–Κ–Η, ―É―²–Ψ–Ω–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ–Η, ―à–Β―Ä―à–Α–≤–Α―è –Η―¹–Κ―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Ψ–Ι.
–ï―¹–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―ë–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―Ä―è–¥ βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Α―è –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―²–Α:
- ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α, ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Η –Ω–Μ–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Φ―è–Κ–Η―à;
- –Ε―ë–Μ―²―΄–Β: ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ-–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ε―ë–Μ―²–Α―è (―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ –≤ –±–Μ–Η–Κ–Α―Ö) –Η –Ψ―Ö―Ä―΄;
- –Ζ–Β–Φ–Μ–Η: ―¹–Η–Β–Ϋ–Α –Η ―É–Φ–±―Ä–Α βÄî ―¹―΄―Ä―΄–Β –Η –Ε–Ε―ë–Ϋ―΄–Β, –Ψ―² ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ-―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι;
- –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β: –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η―Ö –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Κ–Η (–Φ–Α–¥–Β―Ä–Ψ–≤―΄–Β) –¥–Μ―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤;
- ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β: –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Ε–Η―¹―²―΄–Ι βÄî –¥–Μ―è –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö, ―²―è–Ϋ―É―â–Η―Ö―¹―è ―²–Β–Ϋ–Β–Ι;
- ―¹–Η–Ϋ–Η–Β: ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α –¥–Μ―è ―¹–Β―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥ –Η –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ βÄî –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ε–Β―¹―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è.
–½–Β–Μ―ë–Ϋ―΄―Ö ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β―²; –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Η―Ö βÄî ―¹–Φ–Β―¹―¨ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ, –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥―É βÄî –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è. –‰ ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹: –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö ―²–Α–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Η–Ζ ¬Ϊ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, –Α –Η–Ζ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Β–Ι βÄî –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―Ä―΄–Β.
–ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―ç―²―É –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É ―Ä–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι? –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η. –½–Β–Φ–Μ―è–Ϋ―΄–Β –Ω–Η–≥–Φ–Β–Ϋ―²―΄ βÄî –Ψ―Ö―Ä―΄, ―¹–Η–Β–Ϋ―΄, ―É–Φ–±―Ä―΄ βÄî –¥–Α―é―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Ι¬Μ, –Α –Φ―è–≥–Κ―É―é, –Ω–Ψ–¥–Α―²–Μ–Η–≤―É―é –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä―É ―²–Β–Ϋ–Η. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥―Ä―è–Ζ―¨, –Β―¹–Μ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι: –≤―¹―ë ―¹–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –≤–Η–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –£ ―²–Β–Ϋ–Η ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ε–Η–≤―ë―² ―΅–Η―¹―²―΄–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι; ―΅–Α―â–Β ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―²–Α–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ψ―Ö―Ä―΄, –Ω―Ä–Η–Ω―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹ –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–≥–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Α―è, –Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü.
–£–ΨβÄë–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–±–Β–Μ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α¬Μ, –Α ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ. –Γ–≤–Η–Ϋ–Β―Ü –¥–Α―ë―² –≤―è–Ζ–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―è –Ϋ–Α―Ä–Α―â–Η–≤–Α―²―¨ –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Η ―¹–≤–Β―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―² –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ü–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ –Η–Μ–Η ―²–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Κ–Η―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ ―¹–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Κ―É –±–Β–Μ–Η–Μ βÄî –Η ―¹–≤–Β―², –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Η―¹–Κ―Ä–Η―²―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Α –Ϋ–Β ¬Ϊ–Η–Μ–Μ―é–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ¬Μ. –‰ –Β―â―ë βÄî –±–Β–Μ–Η–Μ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ―΅–Η―¹―²–Ψ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η¬Μ: ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö ―΅―É―²―¨βÄë―΅―É―²―¨ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä―΄. –û―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²―ë–Ω–Μ―΄–Φ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ―΄–Φ, –±–Β–Ζ ―¹–Η–Ϋ–Β–≤―΄ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Η.
–£βÄë―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α. –≠―²–Ψ―² ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Ϋ–Η–Ι βÄî –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Α―è –Κ―Ä–Ψ―à–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Μ―é–±–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Β―²―¨: ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–Β―², ―²–Β―Ä―è–Β―² ―è―Ä–Κ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Η–¥―è―² ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η; –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―΅―É―²―¨ –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Β, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Η–Ω–Α–Μ–Ψ –Ω―΄–Μ―¨―é. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α βÄî –Ϋ–Β –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Α―è, –Α –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Α―é―â–Α―è βÄî –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ–Η –Η ―¹–Β―Ä―΄–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Κ–Ψ–Ε–Α.
–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Β–≥–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨ βÄî ―ç―²–Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―¹–Μ–Ψ―ë–≤. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄî ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―². –ù–Α ―Ö–Ψ–Μ―¹―² –Ψ–Ϋ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –¥–≤―É―Ö―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―²: –≤–Ϋ–Η–Ζ―É βÄî ―¹–≤–Β―²–Μ–Α―è –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Α, ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É βÄî –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Α―²–Α―è, –Ψ―Ö―Ä–Η―¹―²–Α―è –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Α. –Θ–Ε–Β ―ç―²–Α –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² –±―É–¥―É―â–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²–Ψ―²―΄, –≤―¹―ë ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ζ–Α―²–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―É–Φ–Α–≥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –î–Α–Μ―¨―à–Β βÄî ¬Ϊ–Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Ι¬Μ ―¹–Μ–Ψ–Ι, doodverf: –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―¹–≤–Β―²–Ψ―²–Β–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Α –Φ–Α–Ζ–Κ–Ψ–≤, –Η―Ö ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.
–¦–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Η –Μ–Α–Κ–Α ―¹ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η βÄî –Φ–Α–¥–Β―Ä–Ψ–≤―΄–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ βÄî –¥–Α―é―² –≤ –Κ–Ψ–Ε–Β –Φ–Β―Ä―Ü–Α–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Η. –£ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ―è―Ö –Μ–Η―Ü–Α –≤―΄ –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―²–Β –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–ΨβÄë―¹–Β―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ―ë–Κ–Η (―¹–Φ–Β―¹–Η –Ψ―Ö―Ä―΄, ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à–Α―é―² ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι –Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –±–Μ–Η–Κ–Η –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β. –£ ―²–Β–Ϋ―è―Ö –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ βÄî ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―É–¥―²–Ψ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α.
–ê –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö βÄî –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Φ–Α–Ζ–Κ–Α. –ï–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±–Μ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α―Ö –Η ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ¬Ϊ–Ε―ë–Μ―²–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α¬Μ, ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Β―¹―¨ –±–Β–Μ–Η–Μ, ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤―Ä–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Μ―΅―ë–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–≤–Α―Ä―Ü–Α, βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Α–Ζ–Ψ–Κ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―Ä–Β–±―Ä–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Μ, –Α ―¹―²–Ψ―è–Μ ―à–Β―Ä―à–Α–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι. –≠―²–Η ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Μ–Ψ–≤―è―² ―¹–≤–Β―² –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Μ–Η―¹―²–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄ –Μ–Ψ–≤―è―² –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ ―¹–≤–Β―΅–Η.
–ï―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α βÄî –Κ―Ä–Α―è. –û–Ϋ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. –Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ―Ä–Α―è ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Α―é―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ, ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è―é―²―¹―è –≤ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Β–Ι –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Β –Η –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –Δ–Α–Φ –Ε–Β, –≥–¥–Β –≤–Α–Ε–Β–Ϋ –Ε–Β―¹―², –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Α ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, βÄî –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Ι, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Ζ–Ψ–Κ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²–Η –Ω–Ψ –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Β. –≠―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―² ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―²: ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η –Ψ–Ϋ, –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι? –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Ϋ–Β―². –û–Ϋ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι. –ï–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α βÄî –Ϋ–Β –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Ψ―²–±–Ψ―Ä. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è –Ψ―² –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄―Ö¬Μ ―²―é–±–Η–Κ–Ψ–≤, ―²―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ. –Δ―΄ –≤–Η–¥–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Β―¹―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Β –±–Β–Ε–Η―à―¨ –Ζ–Α ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―² βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―ç―³―³–Β–Κ―² –Μ–Α–Φ–Ω―΄, –Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄: ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―², –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Φ―è–≥–Κ–Η–Β ¬Ϊ–¥―΄―à–Α―â–Η–Β¬Μ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β, ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²―΄ βÄî –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―΅–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Κ―Ä―΄ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä–Η –Η ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι.
–ï―¹―²―¨ –Β―â―ë ―Ö–Η–Φ–Η―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Α―²―¨, ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α βÄî ―¹–Β―Ä–Β―²―¨, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Ψ–Μ―΄ –≤ –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö βÄî ―²–Β–Φ–Ϋ–Β―²―¨. –€―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –¥–Η–Α–Ω–Α–Ζ–Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω–Α―²–Η–Ϋ―É –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Β―². –£–Ζ―è―²―¨ ¬Ϊ–ï–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ―É―é –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―ɬΜ: ―ç―²–Η ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α βÄî ―¹–Ψ―²–Ϋ―è ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Β―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η. –Δ–Α–Φ ―²–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ι―à–Η–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Α –Φ–Α–Ζ–Κ–Ψ–≤, ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Η –±–Β–Μ–Η–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, βÄî –Η –≤–Κ―Ä–Α–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Β–Μ–Α―é―² ¬Ϊ–Φ–Β―²–Α–Μ–Μ¬Μ –Ε–Η–≤―΄–Φ. –≠―²–Α ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Η–Ζ –±–Μ–Β―¹–Κ–Α, –Α –Η–Ζ ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Α –Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄.
–ö–Α–Κ ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―à―É ―ç―²–Ψ –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é? –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―¹ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä―΄ βÄî ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è –Ψ―Ö―Ä―΄ ―¹ –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι ―É–Φ–±―Ä―΄, ―Ä–Α–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ. –î–Β–Μ–Α―é ¬Ϊ–Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Ι¬Μ ―¹–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―è–Φ–Η: –Ψ―Ö―Ä–Α + –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ βÄî ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ε–Η–≤―΄―Ö –Φ–Β―¹―²: –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ –Ϋ–Ψ―¹–Α, –≥―É–±―΄, ―¹―É―¹―²–Α–≤―΄ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤.
–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥ –±–Β―Ä―É –Ϋ–Β ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ–≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β¬Μ, –Α ―¹–Φ–Β―â–Α―é –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―¹–Β―Ä–Ψ-–≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ βÄî ―²–Α–Κ –Κ–Ψ–Ε–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²―É. –Γ–≤–Β―²–Α –Ω–Η―à―É –≥―É―¹―²–Ψ, –Ϋ–Β ―â–Α–Ε―É –Ω–Α―¹―²–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―è―Ä–Κ–Η–Ι –±–Β–Μ―΄–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―΅–Η―¹―²―΄–Φ, –Α ―²―ë–Ω–Μ―΄–Φ βÄî –Κ–Α–Ω–Μ―è ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ-–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι (–Η–Μ–Η –Β―ë ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄) ―²–≤–Ψ―Ä–Η―² ―΅―É–¥–Β―¹–Α. –£ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –Η―â―É –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² ¬Ϊ―Ü–≤–Β―²–Α ―²―é–±–Η–Κ–Α¬Μ, –Α –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Α–Κ―²―É―Ä: –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α βÄî –Φ–Α–Ζ–Ψ–Κ βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α.
–û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄî ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ: ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –Ε―ë–Μ―²–Α―è –Ψ―Ö―Ä–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―Ü–Η―è―Ö –¥–Α―é―² ―Ü–Β–Μ―É―é ―Ä–Ψ―â―É –Ψ–Μ–Η–≤–Κ–Ψ–≤―΄―Ö, –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Ψ–Ϋ–Α –Η ―²–Β–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―² ―¹ –Κ–Ψ–Ε–Β–Ι, –Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―Ä–Α―é―² –Β―ë. –≠―²–Ψ―² ―²―Ä―é–Κ ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―é –Η–Ζ ―è―â–Η–Κ–Α ―è―Ä–Κ–Η–Β –Η–Ζ―É–Φ―Ä―É–¥―΄ βÄî –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄.
–ü―Ä–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―É―é―â–Η–Β –Η –±–Μ–Β―¹–Κ. –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –¥―΄―à–Α―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ –Μ―¨–Ϋ―è–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―¹–Μ–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–≥―É―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ (stand oil) –Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―¨―é ―¹–Φ–Ψ–Μ–Η―¹―²―΄―Ö –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ. –· –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –±–Β―Ä–Β–≥―É –≥―É―¹―²–Ψ–Β –Φ–Α―¹–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Η –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹–Β–±―è –Ψ―² ¬Ϊ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Η―Ö¬Μ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι: –Μ―É―΅―à–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―É―à–Κ―É, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ―ë―Ä―²–≤―É―é –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―é –±–Μ–Β―¹–Κ βÄî ―²–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α: –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –±–Β–Ζ –±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω―è―²–Β–Ϋ.
–‰, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―è –≤–Ζ―è–Μ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, βÄî ―ç―²–Ψ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α ―¹–≤–Β―²–Α. –Θ –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β¬Μ; –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―². –£ ¬Ϊ–ù–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β¬Μ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ ―É–Ω–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Α –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Β –≤ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –±–Μ–Β―¹–Κ –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Β, –Η ―²―΄ ―É–Ε–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –ù–Α –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α―Ö βÄî –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö-―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤: –Μ–Ψ–±, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―Ü–Α, –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –≥―É–±–Α, –Φ–Ψ―΅–Κ–Α ―É―Ö–Α. –≠―²–Η ¬Ϊ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η¬Μ –≤–Β–¥―É―² –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Β –¥–Α―é―² –±–Μ―É–Ε–¥–Α―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Η―à―É, ―è ―¹―²–Α–≤–Μ―é ―²–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η¬Μ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –Η –≤―¹―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö.
–†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―² βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ―É―é –Κ―Ä–Α―¹–Κ―É¬Μ, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é. –ü―Ä–Ψ ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨―é ―²―é–±–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Φ–Η―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Κ―Ä–Ψ–≤―¨, ―²–Κ–Α–Ϋ―¨, –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ –Η ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –ï–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α βÄî ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―²―Ä―É–±–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α. –½–Β–Φ–Μ–Η –¥–Α―é―² ―²–Β–Μ–Ψ ―²–Β–Ϋ―è–Φ, –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η βÄî –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β, –±–Β–Μ–Η–Μ–Α βÄî –Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Β―²–Α, ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥―É, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β βÄî –Κ―Ä–Ψ–≤―¨.
–£―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ―Ä–Α―é, ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³―É –Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É ―¹–≤–Β―²–Α.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ö–Ϋ–Β―² –Μ―¨–Ϋ―è–Ϋ―΄–Φ –Η ―²–Η―Ö–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β―¹–Κ–Η–≤–Α–Β―² –≥―Ä―É–Ϋ―², ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―É ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α¬Μ: –Κ–Α–Κ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Φ–Η―Ä, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä―É–Κ–Α –±–Β―Ä―ë―² ―΅―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―Ü–≤–Β―²–Α –Η ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α βÄî ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η―² –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―².
–Γ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –¥―É―à–Η, –£–Α―à–Α –ê–Φ―Ä–Η―²–Α –®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α
–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –Γ –≤–Α–Φ–Η –ê–Φ―Ä–Η―²–Α –®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α!
–· –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Ϋ–Β –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Η –Ϋ–Β –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Α –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ–Β –Ζ–Α–Μ–Α –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α, ―É ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α¬Μ. –ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é, ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β ―²―É ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―ɬΜ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Α–Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è―é―² –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Β–≤, –Α ―²―É ―¹–Α–Φ―É―é ―²―ë–Ω–Μ―É―é, –¥―΄―à–Α―â―É―é ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―É, ―¹–Ω–Μ–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ –Ψ―Ö―Ä, ―É–Φ–±―Ä –Η –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ. –‰ –Β―â―ë βÄî ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³. –Γ–≤–Β―² ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ, –Ψ–Ϋ –≤―΄–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ: –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Η –±–Β–Μ–Η–Μ –Ϋ–Α –Μ–±―É, ―â―ë–Κ–Η, ―É―²–Ψ–Ω–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ–Η, ―à–Β―Ä―à–Α–≤–Α―è –Η―¹–Κ―Ä–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Ψ–Ι.
–ï―¹–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―ë–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι ―Ä―è–¥ βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Α―è –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―²–Α:
- ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α, ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Η –Ω–Μ–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Φ―è–Κ–Η―à;
- –Ε―ë–Μ―²―΄–Β: ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ-–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ε―ë–Μ―²–Α―è (―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ –≤ –±–Μ–Η–Κ–Α―Ö) –Η –Ψ―Ö―Ä―΄;
- –Ζ–Β–Φ–Μ–Η: ―¹–Η–Β–Ϋ–Α –Η ―É–Φ–±―Ä–Α βÄî ―¹―΄―Ä―΄–Β –Η –Ε–Ε―ë–Ϋ―΄–Β, –Ψ―² ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ-―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι;
- –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β: –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ –¥–Μ―è ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η―Ö –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Κ–Η (–Φ–Α–¥–Β―Ä–Ψ–≤―΄–Β) –¥–Μ―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤;
- ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β: –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α–Ε–Η―¹―²―΄–Ι βÄî –¥–Μ―è –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö, ―²―è–Ϋ―É―â–Η―Ö―¹―è ―²–Β–Ϋ–Β–Ι;
- ―¹–Η–Ϋ–Η–Β: ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α –¥–Μ―è ―¹–Β―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥ –Η –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ βÄî –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ε–Β―¹―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è.
–½–Β–Μ―ë–Ϋ―΄―Ö ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β―²; –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Η―Ö βÄî ―¹–Φ–Β―¹―¨ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ, –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥―É βÄî –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è. –‰ ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹: –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α. –£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö ―²–Α–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Η–Ζ ¬Ϊ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, –Α –Η–Ζ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Β–Ι βÄî –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―Ä―΄–Β.
–ß―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―ç―²―É –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É ―Ä–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι? –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η. –½–Β–Φ–Μ―è–Ϋ―΄–Β –Ω–Η–≥–Φ–Β–Ϋ―²―΄ βÄî –Ψ―Ö―Ä―΄, ―¹–Η–Β–Ϋ―΄, ―É–Φ–±―Ä―΄ βÄî –¥–Α―é―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Ι¬Μ, –Α –Φ―è–≥–Κ―É―é, –Ω–Ψ–¥–Α―²–Μ–Η–≤―É―é –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä―É ―²–Β–Ϋ–Η. –Γ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥―Ä―è–Ζ―¨, –Β―¹–Μ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι: –≤―¹―ë ―¹–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –≤–Η–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –£ ―²–Β–Ϋ–Η ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ε–Η–≤―ë―² ―΅–Η―¹―²―΄–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι; ―΅–Α―â–Β ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―²–Α–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ψ―Ö―Ä―΄, –Ω―Ä–Η–Ω―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹ –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–≥–Ψ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Α―è, –Α –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü.
–£–ΨβÄë–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–±–Β–Μ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α¬Μ, –Α ―¹–Κ―É–Μ―¨–Ω―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ. –Γ–≤–Η–Ϋ–Β―Ü –¥–Α―ë―² –≤―è–Ζ–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―è –Ϋ–Α―Ä–Α―â–Η–≤–Α―²―¨ –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Η ―¹–≤–Β―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―Ä―΅–Α―² –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ü–Α–Μ―¨―Ü–Β–Φ –Η–Μ–Η ―²–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Κ–Η―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ ―¹–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ–Κ―É –±–Β–Μ–Η–Μ βÄî –Η ―¹–≤–Β―², –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―è―¹―¨, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Η―¹–Κ―Ä–Η―²―¨ ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Α –Ϋ–Β ¬Ϊ–Η–Μ–Μ―é–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ¬Μ. –‰ –Β―â―ë βÄî –±–Β–Μ–Η–Μ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ―΅–Η―¹―²–Ψ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η¬Μ: ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö ―΅―É―²―¨βÄë―΅―É―²―¨ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä―΄. –û―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―² –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²―ë–Ω–Μ―΄–Φ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ―΄–Φ, –±–Β–Ζ ―¹–Η–Ϋ–Β–≤―΄ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Η.
–£βÄë―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α. –≠―²–Ψ―² ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Η–Ϋ–Η–Ι βÄî –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Α―è –Κ―Ä–Ψ―à–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Μ―é–±–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Β―²―¨: ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–Β―², ―²–Β―Ä―è–Β―² ―è―Ä–Κ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Η–¥―è―² ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η; –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―΅―É―²―¨ –≥–Ψ–Μ―É–±–Β–Β, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω―Ä–Η–Ω–Α–Μ–Ψ –Ω―΄–Μ―¨―é. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α βÄî –Ϋ–Β –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Α―è, –Α –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Ψ―Ö–Μ–Α–Ε–¥–Α―é―â–Α―è βÄî –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ–Η –Η ―¹–Β―Ä―΄–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Κ–Ψ–Ε–Α.
–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Β–≥–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨ βÄî ―ç―²–Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―¹–Μ–Ψ―ë–≤. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄî ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―². –ù–Α ―Ö–Ψ–Μ―¹―² –Ψ–Ϋ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –¥–≤―É―Ö―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―²: –≤–Ϋ–Η–Ζ―É βÄî ―¹–≤–Β―²–Μ–Α―è –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Α, ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É βÄî –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Α―²–Α―è, –Ψ―Ö―Ä–Η―¹―²–Α―è –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Α. –Θ–Ε–Β ―ç―²–Α –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Α –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² –±―É–¥―É―â–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ: –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²–Ψ―²―΄, –≤―¹―ë ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ζ–Α―²–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―É–Φ–Α–≥–Α ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –î–Α–Μ―¨―à–Β βÄî ¬Ϊ–Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Ι¬Μ ―¹–Μ–Ψ–Ι, doodverf: –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α ―¹–≤–Β―²–Ψ―²–Β–Ϋ–Η –±–Β–Ζ –Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―Ü–≤–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Μ–Α –Φ–Α–Ζ–Κ–Ψ–≤, –Η―Ö ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.
–¦–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Η –Μ–Α–Κ–Α ―¹ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η βÄî –Φ–Α–¥–Β―Ä–Ψ–≤―΄–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ βÄî –¥–Α―é―² –≤ –Κ–Ψ–Ε–Β –Φ–Β―Ä―Ü–Α–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Η. –£ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ―è―Ö –Μ–Η―Ü–Α –≤―΄ –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―²–Β –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–ΨβÄë―¹–Β―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ―ë–Κ–Η (―¹–Φ–Β―¹–Η –Ψ―Ö―Ä―΄, ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Η), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à–Α―é―² ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄–Ι –Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –±–Μ–Η–Κ–Η –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β. –£ ―²–Β–Ϋ―è―Ö –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ βÄî ―²―ë–Ω–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―É–¥―²–Ψ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α.
–ê –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö βÄî –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Φ–Α–Ζ–Κ–Α. –ï–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±–Μ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α―Ö –Η ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ¬Ϊ–Ε―ë–Μ―²–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α¬Μ, ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Β―¹―¨ –±–Β–Μ–Η–Μ, ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹ –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤―Ä–Ψ–¥–Β ―²–Ψ–Μ―΅―ë–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–≤–Α―Ä―Ü–Α, βÄî ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Α–Ζ–Ψ–Κ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―Ä–Β–±―Ä–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Μ, –Α ―¹―²–Ψ―è–Μ ―à–Β―Ä―à–Α–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι. –≠―²–Η ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä–Κ–Η¬Μ –Μ–Ψ–≤―è―² ―¹–≤–Β―² –≤ –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Μ–Η―¹―²–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄ –Μ–Ψ–≤―è―² –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ ―¹–≤–Β―΅–Η.
–ï―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α βÄî –Κ―Ä–Α―è. –û–Ϋ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. –Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Κ―Ä–Α―è ―Ä–Α―¹–Ω–Α–¥–Α―é―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Φ―Ä–Α–Κ, ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è―é―²―¹―è –≤ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Β–Ι –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Β –Η –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –Δ–Α–Φ –Ε–Β, –≥–¥–Β –≤–Α–Ε–Β–Ϋ –Ε–Β―¹―², –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Α ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, βÄî –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Ι, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α–Ζ–Ψ–Κ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²–Η –Ω–Ψ –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Β. –≠―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―² ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι.
–€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―²: ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η –Ψ–Ϋ, –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι? –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Ϋ–Β―². –û–Ϋ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι. –ï–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α βÄî –Ϋ–Β –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Ψ―²–±–Ψ―Ä. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è –Ψ―² –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄―Ö¬Μ ―²―é–±–Η–Κ–Ψ–≤, ―²―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ. –Δ―΄ –≤–Η–¥–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–Β –Β―â―ë –Β―¹―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Β –±–Β–Ε–Η―à―¨ –Ζ–Α ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι ―¹–≤–Β―² βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―ç―³―³–Β–Κ―² –Μ–Α–Φ–Ω―΄, –Α ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄: ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ϋ―², –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Φ―è–≥–Κ–Η–Β ¬Ϊ–¥―΄―à–Α―â–Η–Β¬Μ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β, ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²―΄ βÄî –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―΅–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Κ―Ä―΄ –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä–Η –Η ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι.
–ï―¹―²―¨ –Β―â―ë ―Ö–Η–Φ–Η―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–Κ–Η ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Α―²―¨, ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α βÄî ―¹–Β―Ä–Β―²―¨, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Ψ–Μ―΄ –≤ –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö βÄî ―²–Β–Φ–Ϋ–Β―²―¨. –€―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β –≤–Β―¹―¨ –¥–Η–Α–Ω–Α–Ζ–Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω–Α―²–Η–Ϋ―É –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Β―². –£–Ζ―è―²―¨ ¬Ϊ–ï–≤―Ä–Β–Ι―¹–Κ―É―é –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―ɬΜ: ―ç―²–Η ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α βÄî ―¹–Ψ―²–Ϋ―è ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Β―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η. –Δ–Α–Φ ―²–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ι―à–Η–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Α –Φ–Α–Ζ–Κ–Ψ–≤, ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Η –±–Β–Μ–Η–Μ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, βÄî –Η –≤–Κ―Ä–Α–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Β–Μ–Α―é―² ¬Ϊ–Φ–Β―²–Α–Μ–Μ¬Μ –Ε–Η–≤―΄–Φ. –≠―²–Α ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Η–Ζ –±–Μ–Β―¹–Κ–Α, –Α –Η–Ζ ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Α –Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄.
–ö–Α–Κ ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―à―É ―ç―²–Ψ –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é? –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―¹ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä―΄ βÄî ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è –Ψ―Ö―Ä―΄ ―¹ –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι ―É–Φ–±―Ä―΄, ―Ä–Α–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ. –î–Β–Μ–Α―é ¬Ϊ–Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Ι¬Μ ―¹–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―è–Φ–Η: –Ψ―Ö―Ä–Α + –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ βÄî ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ε–Η–≤―΄―Ö –Φ–Β―¹―²: –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ –Ϋ–Ψ―¹–Α, –≥―É–±―΄, ―¹―É―¹―²–Α–≤―΄ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤.
–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥ –±–Β―Ä―É –Ϋ–Β ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ–≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β¬Μ, –Α ―¹–Φ–Β―â–Α―é –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É ―¹–Β―Ä–Ψ-–≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–≥–Ψ βÄî ―²–Α–Κ –Κ–Ψ–Ε–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²―É. –Γ–≤–Β―²–Α –Ω–Η―à―É –≥―É―¹―²–Ψ, –Ϋ–Β ―â–Α–Ε―É –Ω–Α―¹―²–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―è―Ä–Κ–Η–Ι –±–Β–Μ―΄–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―΅–Η―¹―²―΄–Φ, –Α ―²―ë–Ω–Μ―΄–Φ βÄî –Κ–Α–Ω–Μ―è ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ-–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι (–Η–Μ–Η –Β―ë ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄) ―²–≤–Ψ―Ä–Η―² ―΅―É–¥–Β―¹–Α. –£ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –Η―â―É –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² ¬Ϊ―Ü–≤–Β―²–Α ―²―é–±–Η–Κ–Α¬Μ, –Α –Ζ–Α ―¹―΅―ë―² ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Α–Κ―²―É―Ä: –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α βÄî –Φ–Α–Ζ–Ψ–Κ βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ü–Α―Ä–Α–Ω–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à―²―Ä–Η―Ö βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α.
–û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄî ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Β –±–Β–Ζ –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ: ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –Ε―ë–Μ―²–Α―è –Ψ―Ö―Ä–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―Ü–Η―è―Ö –¥–Α―é―² ―Ü–Β–Μ―É―é ―Ä–Ψ―â―É –Ψ–Μ–Η–≤–Κ–Ψ–≤―΄―Ö, –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―³–Ψ–Ϋ–Α –Η ―²–Β–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―² ―¹ –Κ–Ψ–Ε–Β–Ι, –Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―Ä–Α―é―² –Β―ë. –≠―²–Ψ―² ―²―Ä―é–Κ ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α ―É –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―é –Η–Ζ ―è―â–Η–Κ–Α ―è―Ä–Κ–Η–Β –Η–Ζ―É–Φ―Ä―É–¥―΄ βÄî –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄.
–ü―Ä–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―É―é―â–Η–Β –Η –±–Μ–Β―¹–Κ. –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –¥―΄―à–Α―², –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ –Μ―¨–Ϋ―è–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―¹–Μ–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–≥―É―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ (stand oil) –Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹―¨―é ―¹–Φ–Ψ–Μ–Η―¹―²―΄―Ö –¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ. –· –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –±–Β―Ä–Β–≥―É –≥―É―¹―²–Ψ–Β –Φ–Α―¹–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Η –±–Β―Ä–Β–≥―É ―¹–Β–±―è –Ψ―² ¬Ϊ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Η―Ö¬Μ ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι: –Μ―É―΅―à–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―É―à–Κ―É, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ―ë―Ä―²–≤―É―é –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―é –±–Μ–Β―¹–Κ βÄî ―²–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ι―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α: –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –±–Β–Ζ –±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω―è―²–Β–Ϋ.
–‰, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―è –≤–Ζ―è–Μ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ, βÄî ―ç―²–Ψ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α ―¹–≤–Β―²–Α. –Θ –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β¬Μ; –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―². –£ ¬Ϊ–ù–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β¬Μ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ ―É–Ω–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Α –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Β –≤ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –±–Μ–Β―¹–Κ –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Β, –Η ―²―΄ ―É–Ε–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –ù–Α –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α―Ö βÄî –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö-―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤: –Μ–Ψ–±, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―Ü–Α, –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―è―è –≥―É–±–Α, –Φ–Ψ―΅–Κ–Α ―É―Ö–Α. –≠―²–Η ¬Ϊ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η¬Μ –≤–Β–¥―É―² –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Η –Ϋ–Β –¥–Α―é―² –±–Μ―É–Ε–¥–Α―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Η―à―É, ―è ―¹―²–Α–≤–Μ―é ―²–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η¬Μ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –Η –≤―¹―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö.
–†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―² βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ―É―é –Κ―Ä–Α―¹–Κ―É¬Μ, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―é. –ü―Ä–Ψ ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨―é ―²―é–±–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Φ–Η―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Β―¹―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Κ―Ä–Ψ–≤―¨, ―²–Κ–Α–Ϋ―¨, –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ –Η ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –ï–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Α βÄî ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―²―Ä―É–±–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α. –½–Β–Φ–Μ–Η –¥–Α―é―² ―²–Β–Μ–Ψ ―²–Β–Ϋ―è–Φ, –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η βÄî –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β, –±–Β–Μ–Η–Μ–Α βÄî –Κ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Β―²–Α, ―¹–Φ–Α–Μ―¨―²–Α βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥―É, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β βÄî –Κ―Ä–Ψ–≤―¨.
–£―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β βÄî –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ―Ä–Α―é, ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³―É –Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É ―¹–≤–Β―²–Α.
–ö–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ö–Ϋ–Β―² –Μ―¨–Ϋ―è–Ϋ―΄–Φ –Η ―²–Η―Ö–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β―¹–Κ–Η–≤–Α–Β―² –≥―Ä―É–Ϋ―², ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―É ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α¬Μ: –Κ–Α–Κ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Φ–Η―Ä, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä―É–Κ–Α –±–Β―Ä―ë―² ―΅―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―Ü–≤–Β―²–Α –Η ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α βÄî ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η―² –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―².
–Γ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –¥―É―à–Η, –£–Α―à–Α –ê–Φ―Ä–Η―²–Α –®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α
–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
"–†–Η―΅–Α―Ä–¥ II –Η –Β–≥–Ψ ―é–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α –£–Α–Μ―É–Α".
–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Η –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―²–Ψ―Ä Fortunino Matania (1881-1963).
–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Η –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―²–Ψ―Ä Fortunino Matania (1881-1963).
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤: –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ
–ü―Ä–Η–≤–Β―²! –Γ –≤–Α–Φ–Η –ê–Φ―Ä–Η―²–Α. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ε–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–ù–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι βÄî –Ψ–Ϋ ―É–±–Η–≤–Α–Β―² ―Ü–≤–Β―²¬Μ. –€–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η, –Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―¹―²–Ψ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Δ–Η―Ü–Η–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, ―è –≤–Η–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–≤–Β―², –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –¥–Α―ë―² –≤―΄―¹–≤–Β―²–Α–Φ –Ζ–≤―É―΅–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨. –Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É βÄî ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–ΨβÄë–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ.
–Γ―²–Α―Ä―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Η –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η: ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―², ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―²–Α –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è. –î–Α–Ε–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Β: –Ϋ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è―¹–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ–Φ. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Α―Ä–¥–Ψ –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Κ –Ω―ë―¹―²―Ä―΄–Φ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Φ: –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η –Η–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄ –Κ–Α―Ä―². –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ βÄî –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ–Α―è ―²―¨–Φ–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β.
–ö–Α–Κ–Η–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―¹―¨
–· –¥–Β―Ä–Ε―É –≤ ―è―â–Η–Κ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄―Ö¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
- –ö–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι/–Η–≤–Ψ―Ä–Η–Β–≤―΄–Ι (PBk9). –ü–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι, ―¹ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ (―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α―²―΄–Φ) –Ω–Ψ–¥―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö–Ϋ–Β―². –‰–¥–Β–Α–Μ–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ ―²–Β–Ϋ–Β–Ι, –≤–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β―Ä―΄―Ö.
- –Γ–Α–Ε–Β–≤―΄–Ι/–Μ–Α–Φ–Ω–Ψ–≤―΄–Ι (PBk6). –ï―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Η―¹―²―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö–Ϋ–Β―². –ë–Β―Ä–Β–≥―É –¥–Μ―è –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Β–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥―΄–Φ―΅–Α―²―΄―Ö ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–≤.
- –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι (PBk8). –€―è–≥–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―É–Κ―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ―¹―²–Η, ―΅―É―²―¨ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Κ–Α –Η ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α –Κ–Η―¹―²―¨―é.
- –€–Α―Ä―¹βÄë―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι (PBk11). –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ψ―Ö–Ϋ–Β―², ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―É–Κ―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ―¹―²―¨. –· –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é ―²–Ψ―΅–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―²―ë–Φ–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –≤ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Κ–Β –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –±–Α―Ä―Ö–Α―².
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β¬Μ βÄî –Κ–Α―¹―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è/–≤–Α–Ϋ –î–Β–Ι–Κ βÄî –¥–Α―é―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Α―²―΄–Β ―²–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄: –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄ –≤ ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –· –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é –Η―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ―é, –Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―΅–Α―â–Β –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―é –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–Φ–Β―¹–Η ―¹ ―É–Φ–±―Ä–Α–Φ–Η.
–ö–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄
- –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅–Α―â–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–Β: ―¹―²―Ä–Ψ―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Η ―²–Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Η –≤ ―Ü–≤–Β―².
- –½–Α―²–Β–Φ βÄî ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹–≤–Β―², ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Η―¹―²―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ–Η –Η –±–Μ–Η–Κ–Η: –≤–Ω―É―¹–Κ–Α―é –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Η –Ψ–±―ä–Β–Φ.
- –‰ –Μ–Η―à―¨ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Β βÄî –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤: ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ι.
–Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ: ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―¹―΄ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―², –Α ―Ü–≤–Β―² –Ζ–≤―É―΅–Η―² ―²–Ψ―΅–Β―΅–Ϋ–Ψ –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ
1) –£–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Α―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ι
–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄë–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Ε–Η–≤–Ψ―¹―²―¨¬Μ –Κ–Ψ–Ε–Η ―É ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤–Β–Ϋ–Β―Ü–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, –≤―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ βÄî –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Ψ–Κ. –· –Ω–Η―à―É –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―¹―¨―é –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ (―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Μ–Η –ù–Β–Α–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ε―ë–Μ―²–Α―è –Ψ―Ö―Ä–Α) –Η –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι –±–Β–Μ–Η–Μ. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι, ―΅―É―²―¨ ―¹–Β―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Ι ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β―Ü¬Μ ―É–Κ―Ä–Ψ―â–Α–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―²―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ―ë–≤, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –¥–Μ―è ―¹–Ψ―¹―É–¥–Η―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ―ë–Ω–Μ―΄–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² ¬Ϊ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨―¹―è¬Μ –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η.
–ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α: ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Α―è, –Φ–Α―²–Ψ–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –Ω–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Β, –±–Β–Ζ –Ε–Η―Ä–Α. –î–Α–Μ―¨―à–Β βÄî –≤–Β–Μ–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―ë–Ω–Μ―΄―Ö. –‰―²–Ψ–≥ βÄî –≤–Ϋ―è―²–Ϋ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –±–Β–Ζ ¬Ϊ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–Κ–Μ―΄¬Μ.
2) –¦–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö ―²–Β–Ϋ–Β–Ι
–Δ–Β–Ϋ–Η –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅―¨¬Μ –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α. –≠―²–Ψ ―Ä―è–¥ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ―¨―²―Ä–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ ―¹ ―É–Φ–±―Ä–Α–Φ–Η, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Α–Κ–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Α –¥―΄―à–Α–Μ–Α. –ö–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―É―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Β–Ϋ: –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Ω―¨―ë―²¬Μ –Φ–Α―¹–Μ–Ψ, –¥–Α―ë―² –Φ–Α―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Β―² ―¹–Μ–Ψ–Ι.
–€–Ψ–Ι ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²: 1 ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹―²–Ψ―è―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α –Κ 3 ―΅–Α―¹―²―è–Φ ―É–Α–Ι―²βÄë―¹–Ω–Η―Ä–Η―²–Α –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–Η―É–Φ –¥–Μ―è –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Η―¹―²–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ι βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Ι. –¦―É―΅―à–Β –Ω―è―²―¨ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, ―΅–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι. –‰ –¥–Α βÄî –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ ¬Ϊfat over lean¬Μ: ―΅–Β–Φ –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è–Φ, ―²–Β–Φ ―΅―É―²―¨ –Ε–Η―Ä–Ϋ–Β–Β.
3) –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―Ä―΄–Β –Η ―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α –±–Β–Ζ ―¹–Η–Ϋ–Β–≥–Ψ
–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –±–Β–Μ–Η–Μ–Α –¥–Α―é―² ―¹–Β―Ä―΄–Β ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ. –Θ –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî ―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α―²–Α―è –≤―É–Α–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ –±–Β–Μ–Η–Μ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Ι¬Μ, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Κ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–±–Β–Μ―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Β–≤. –≠―²–Ψ –±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥―΄–Φ―΅–Α―²―΄―Ö ―²–Κ–Α–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Μ–Α–Φ―É―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Β―Ä―΄―Ö –£–Β―Ä–Φ–Β–Β―Ä–Α –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―³–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤ –≤ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Β.
–†–Α–±–Ψ―΅–Α―è –Ω–Α―Ä–Α: –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α (–Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²–Β―¹―¨ –Η ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Β―²–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η) –Η–Μ–Η ―²–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹ –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α/―³–Η–Ψ–Μ–Β―²–Α –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ϋ–Α–Φ―ë–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –Ψ–Ω―²–Η–Κ―É ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è ―¹–Β―Ä―΄–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―² ―¹ ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥.
4) –½–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ε―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ
¬Ϊ–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ―Ü–≤–Β―²¬Μ βÄî –Α –≤–Ψ―² –Η –Ϋ–Β―². –Γ–Φ–Β―à–Α–Ι―²–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ βÄî –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι –Ψ–Μ–Η–≤–Κ–Ψ–≤―΄–Ι, –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Μ–Η―¹―²–≤―΄, –Ω–Μ–Α―â–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ―΄. –≠―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ ―É –≤–Β–Ϋ–Β―Ü–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―¹ leadβÄëtin yellow, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹ –ù–Β–Α–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι –Ψ―Ö―Ä–Ψ–Ι, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî ―¹ –Ϋ–Η–Κ–Β–Μ―¨βÄë–Α–Ζ–Ψ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ¬Ϊ–Κ―Ä–Η―΅–Η―²¬Μ, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ.
5) –ë–Α―Ä―Ö–Α―², –Φ–Β―Ö, ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Κ–Α–Ϋ–Η
–†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―² –Η –£–Β–Μ–Α―¹–Κ–Β―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ¬Ϊ―΅–Η―¹―²―΄–Φ¬Μ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ. –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―¹–≤–Β―²―É –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥ –≤ ―²–Β–Ϋ–Η. –· –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―¹ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Κ–Α (―É–Φ–±―Ä–Α –Ε–Ε―ë–Ϋ–Α―è + –Φ–Α―Ä―¹βÄë―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι), –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ ―²–Β–Ϋ–Η βÄî –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹ –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―¹–≤–Β―² βÄî ―¹–Κ―É–Φ–±–Μ–Η–Ϋ–≥ ―²―ë–Ω–Μ–ΨβÄë―¹–Β―Ä―΄–Φ (―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –±–Β–Μ–Η–Μ–Α + –Κ–Α–Ω–Μ―è –Ψ―Ö―Ä―΄). –ë–Μ–Η–Κ βÄî –Ϋ–Β –±–Β–Μ―΄–Ι, –Α –Β–¥–≤–Α ―²–Β–Ω–Μ–Β–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Α–Κ ―²–Κ–Α–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –¥―΄―Ä―É, –Α –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Β–Μ–Ψ–Φ.
6) –ü–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―è –Η ―¹―³―É–Φ–Α―²–Ψ
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–≤–Β―² –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Μ―É―΅―à–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―é―â–Η–Ι¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ –Β―â―ë –Μ–Η–Ω–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Φ―É ―¹–Μ–Ψ―é, ―è ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ ¬Ϊ–≤―²―è–≥–Η–≤–Α―é¬Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä –≤ ―²–Β–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥–Μ–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ε―ë―¹―²–Κ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É. –≠―²–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¹―è.
7) –ê―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―¹
–Γ―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Α ¬Ϊ―²―Ä–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è¬Μ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ë–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ζ―ë―² –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É, –Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ¬Ϊ–±―É–±–Ϋ–Η―²―¨¬Μ. –· –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é –Κ–Μ―é―΅–Β–≤―΄–Β ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―¹―΄ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β, –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α ―Ü–≤–Β―²–Α.
8) –ù–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―Ö―Ä–Ψ–Φ―΄ –±–Β–Ζ –≥―Ä―è–Ζ–Η
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Η–≥–Φ–Β–Ϋ―² –Κ―Ä–Η―΅–Η―² (–Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨, –Κ–Ψ–±–Α–Μ―¨―², ―³―²–Α–Μ–Ψ), ―è –Ϋ–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è―é –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–¥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –· –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Η–≤–Α―é –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –Ψ―Ö―Ä–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―Ü–Η―è―Ö), –Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―à–Η–≤–Α―é –Β―ë –Φ–Α–Μ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η. –Δ–Α–Κ ―Ü–≤–Β―² ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ¬Ϊ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―²¬Μ.
9) –€–Β―²–Α–Μ–Μ –Η ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ
–Γ–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Φ―è–≥–Κ–ΨβÄë―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±–Μ–Η–Κ, βÄî –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―²–Α. –ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Α―ë―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α¬Μ –≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Β―Ä–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α. –Δ–Ψ –Ε–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ: –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–≤–Β―²–Α, –Α –Ϋ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Β–Μ―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä―É.
–ü―Ä–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²―΄ –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨
–ù–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―²–Β–Ϋ–Β–Ι –Η ¬Ϊ–Φ―É―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥¬Μ ―è―Ä–Κ–Η–Β –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–≤―É―΅–Α―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ. –£ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η –≤―¹―ë –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Α―Ö:
- ―è―Ä–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β
- ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β
- –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Β –Η ―É–≥–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β
- –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Β
- –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β –Η ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Ϋ–Ψ–Β
–≠―²–Ψ –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –£–Μ–Α–¥–Β―è –Η–Φ–Η, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α βÄî –Ψ―² ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η ―É–Φ–Η―Ä–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η –Η –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η. –ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄî –Κ–Α–Κ –¥–Η―Ä–Η–Ε―ë―Ä: –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥–Α―ë―² ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―² ―Ü–≤–Β―²–Α.
–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Η –Η–Ζ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι
- –Γ―É―à–Κ–Α. –ö–Α―Ä–±–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É―² –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ βÄî –≤–Β–¥–Η―²–Β ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Ι―²–Β ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Φ–Β―¹―è―Ö (–Ψ–Ϋ–Η ―É―¹–Κ–Ψ―Ä―è―² –Ω–Ψ–Μ–Η–Φ–Β―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é), –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Ι―²–Β –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ―è–Φ–Η. –Γ–Η–Κ–Κ–Α―²–Η–≤―΄ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö.
- –€–Α―² vs –≥–Μ―è–Ϋ–Β―Ü. –ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–±–Η―² –Φ–Α―²–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨: –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α–Β―² ―¹–≤–Β―² –Η ¬Ϊ―²―è–Ϋ–Β―²¬Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –™–Μ―è–Ϋ–Β―Ü –Ϋ–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―²–Β–Ϋ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α–Β―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ï―¹–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ι –±–Μ–Β―¹―²–Η―² βÄî –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β―¹―¨ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –≤―΄―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è–Ι―²–Β –Ψ–±―â–Η–Ι –≥–Μ―è–Ϋ–Β―Ü ―Ä–Β―²―É―à–Ϋ―΄–Φ –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ–Η―à–Β –≤―¹–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.
- –•–Η―Ä –Ω–Ψ ―²–Ψ―â–Β–Φ―É. –¦–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ –Ε–Η―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ü–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–Ζ–Κ–Η –Φ–Α―Ä―¹–Ψ–Φ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–¥–Η―è―Ö, –¥–Α–Μ―¨―à–Β βÄî ―²–Ψ–Ϋ―¨―à–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β.
- –ö–Η―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Ε–Κ–Α. –¦―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―à–Β―Ä–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Φ―É –≥―Ä―É–Ϋ―²―É –Η –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ϋ–Β –Ω–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–Φ―É). –ö–Ψ–Ζ–Α/―¹–Η–Ϋ―²–Β―²–Η–Κ–Α –¥–Μ―è –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö –≤―É–Α–Μ–Β–Ι, ―â–Β―²–Η–Ϋ–Α βÄî –¥–Μ―è ―¹–Κ―É–Φ–±–Μ–Η–Ϋ–≥–Α.
–ß–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―é
- –ë–Η―²―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Η ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ: –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ―΄, –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―É―à–Κ–Η, –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Μ–Ψ–Η.
- –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―²―é–±–Η–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –≤―¹―ë. –£ ―¹–≤–Β―²―É ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²–Α –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Η―². –£ ―²–Β–Ω–Μ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Ι ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥. –£–≤–Ψ–¥–Η―²–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ü–Β–Μ–Β–≤–Ψ.
- –½–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–≤–Β―²–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―¹–Φ–Β―¹–Η. –¦―É―΅―à–Β –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―¹ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η, ―΅–Β–Φ ―É–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ü–≤–Β―² –≤ –±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―².
- –†–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β, ―²–Β–Ϋ―¨, ―³–Ψ–Ϋ βÄî –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α. –†–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ϋ―΄ (―²―ë–Ω–Μ―΄–Β/―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β), ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―³–Α–Κ―²―É―Ä―΄ βÄî –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Ψ.
–ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ―É
–€–Η―³ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ βÄî –Φ–Η―³. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Η ―â–Β–¥―Ä–Ψ. –£ ―¹―Ä–Β–Ζ–Α―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α, –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, –≤–Α–Ϋ –î–Β–Ι–Κ–Α ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι/–Η–≤–Ψ―Ä–Η–Β–≤―΄–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι. –£–Β―Ä–Φ–Β–Β―Ä –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―Ü–≤–Β―²–Α –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–Φ–Β―¹―è―Ö –¥–Μ―è ―³–Ψ–Ϋ–Α –Η ―²–Β–Ϋ–Β–Ι. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Κ ―¹ –Ψ–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―¹ ¬Ϊ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²―é–±–Η–Κ–Α¬Μ: ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, ―¹ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η –±–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–Φ.
–ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Η ¬Ϊ―è–Ϋ―²―Ä–Β¬Μ
–û―¹–≤–Ψ–Η–≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―ë―² –Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Μ–Η–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Φ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Η ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≤–Μ–Η―è―è –Ϋ–Α –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è. –‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹―Ü–Β–Μ―è―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ ―¹–≤–Β―²―É –Η ―¹–Η–Μ–Β –¥―É―Ö–Α, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ψ –≤―΄―¹―à–Η―Ö ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α―Ö –Η βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Α βÄî –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―²―É–Ω–Η–Κ–Ψ–≤.
–ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ, –Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è ―Ü–≤–Β―²–Α, ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹―ë―Ä―É –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä―É, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² ―è–Ϋ―²―Ä―É βÄî –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―², –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Η–±―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É–Φ–Α―Ö –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι (―¹–Α–Ϋ―¹–Κ―Ä–Η―²―¹–Κ–Ψ–Β ¬Ϊyantra¬Μ βÄî ¬Ϊ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α¬Μ, ¬Ϊ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ¬Μ). –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ βÄî ―¹–≤–Ψ―è ―è–Ϋ―²―Ä–Α, –Φ–Β–Ϋ―è―é―â–Α―è ―΅–Α―¹―²–Ψ―²―΄ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―², –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η:
- –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β ―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β
- ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥ –™―ë―²–Β
- –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α
- –Α–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ–Η―è
–≠―²–Ψ ―²–Β –Ϋ–Η―²–Ψ―΅–Κ–Η, –¥―ë―Ä–≥–Α―è –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η.
–¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥
–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β. –û–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ―΄–Φ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –ë–Β–Ζ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―Ä–Ψ–Κ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –¥―΄―à–Η―², –Κ–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Β ―¹–Η―è–Β―², –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Β―². –î–Β―Ä–Ε–Η―²–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –≤ ―É–Ζ–¥–Β. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨: –≤ ―²–Β–Ϋ―è―Ö, –≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―è―Ö, –≤ –≤–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ, –≤ –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Β –Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Β. –‰ ―²–Ψ
–ü―Ä–Η–≤–Β―²! –Γ –≤–Α–Φ–Η –ê–Φ―Ä–Η―²–Α. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ε–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–Κ–Μ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–ù–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι βÄî –Ψ–Ϋ ―É–±–Η–≤–Α–Β―² ―Ü–≤–Β―²¬Μ. –€–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η, –Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, ―¹―²–Ψ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Δ–Η―Ü–Η–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, ―è –≤–Η–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–≤–Β―², –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –¥–Α―ë―² –≤―΄―¹–≤–Β―²–Α–Φ –Ζ–≤―É―΅–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨. –Γ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É βÄî ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–ΨβÄë–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ.
–Γ―²–Α―Ä―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Η –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―²–Ψ–Ε–Β. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η: ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Β―², ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―²–Α –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è. –î–Α–Ε–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Β: –Ϋ–Α ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è―¹–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ –Ω―è―²–Ϋ–Ψ–Φ. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Α―Ä–¥–Ψ –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Κ –Ω―ë―¹―²―Ä―΄–Φ, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Φ: –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ―¨ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η –Η–Ζ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄ –Κ–Α―Ä―². –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ βÄî –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Β–Μ–Α―è ―²―¨–Φ–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β.
–ö–Α–Κ–Η–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―¹―¨
–· –¥–Β―Ä–Ε―É –≤ ―è―â–Η–Κ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄―Ö¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä –Η –Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.
- –ö–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι/–Η–≤–Ψ―Ä–Η–Β–≤―΄–Ι (PBk9). –ü–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι, ―¹ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ (―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α―²―΄–Φ) –Ω–Ψ–¥―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö–Ϋ–Β―². –‰–¥–Β–Α–Μ–Β–Ϋ –¥–Μ―è –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ ―²–Β–Ϋ–Β–Ι, –≤–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ –Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β―Ä―΄―Ö.
- –Γ–Α–Ε–Β–≤―΄–Ι/–Μ–Α–Φ–Ω–Ψ–≤―΄–Ι (PBk6). –ï―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Α―¹–Μ―è–Ϋ–Η―¹―²―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―Ö–Ϋ–Β―². –ë–Β―Ä–Β–≥―É –¥–Μ―è –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Β–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥―΄–Φ―΅–Α―²―΄―Ö ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–≤.
- –£–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι (PBk8). –€―è–≥–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―É–Κ―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ―¹―²–Η, ―΅―É―²―¨ ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Κ–Α –Η ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Α –Κ–Η―¹―²―¨―é.
- –€–Α―Ä―¹βÄë―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι (PBk11). –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―²―ë–Ω–Μ―΄–Ι, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―¹–Ψ―Ö–Ϋ–Β―², ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―É–Κ―Ä―΄–≤–Η―¹―²–Ψ―¹―²―¨. –· –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é ―²–Ψ―΅–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―²―ë–Φ–Ϋ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –≤ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Κ–Β –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –±–Α―Ä―Ö–Α―².
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β¬Μ βÄî –Κ–Α―¹―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è/–≤–Α–Ϋ –î–Β–Ι–Κ βÄî –¥–Α―é―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Α―²―΄–Β ―²–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄: –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄ –≤ ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –· –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é –Η―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ―é, –Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ―΅–Α―â–Β –¥–Ψ–±–Η―Ä–Α―é –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–Φ–Β―¹–Η ―¹ ―É–Φ–±―Ä–Α–Φ–Η.
–ö–Μ–Α―¹―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄
- –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅–Α―â–Β –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–Β: ―¹―²―Ä–Ψ―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Η ―²–Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ ―¹–Ω–Β―à–Κ–Η –≤ ―Ü–≤–Β―².
- –½–Α―²–Β–Φ βÄî ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹–≤–Β―², ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Η―¹―²―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―²–Β–Ϋ–Η –Η –±–Μ–Η–Κ–Η: –≤–Ω―É―¹–Κ–Α―é –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Η –Ψ–±―ä–Β–Φ.
- –‰ –Μ–Η―à―¨ –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Β βÄî –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤―΄―Ö –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤: ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ι.
–Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ: ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―¹―΄ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―é―² –Κ–Ψ–Μ–Ψ―Ä–Η―², –Α ―Ü–≤–Β―² –Ζ–≤―É―΅–Η―² ―²–Ψ―΅–Β―΅–Ϋ–Ψ –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ
1) –£–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Α―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ι
–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–ΑβÄë–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Ε–Η–≤–Ψ―¹―²―¨¬Μ –Κ–Ψ–Ε–Η ―É ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤–Β–Ϋ–Β―Ü–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, –≤―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ βÄî –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Ψ–Κ. –· –Ω–Η―à―É –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―¹―¨―é –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ (―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–Ψ–Μ–Ψ–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Μ–Η –ù–Β–Α–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α―è, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ε―ë–Μ―²–Α―è –Ψ―Ö―Ä–Α) –Η –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι –±–Β–Μ–Η–Μ. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι, ―΅―É―²―¨ ―¹–Β―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Ι ¬Ϊ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β―Ü¬Μ ―É–Κ―Ä–Ψ―â–Α–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―²―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ―ë–≤, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –¥–Μ―è ―¹–Ψ―¹―É–¥–Η―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Δ―ë–Ω–Μ―΄–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² ¬Ϊ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨―¹―è¬Μ –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η.
–ü―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α: ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Α―è, –Φ–Α―²–Ψ–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―΄―à–Κ–Α –Ω–Ψ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Β, –±–Β–Ζ –Ε–Η―Ä–Α. –î–Α–Μ―¨―à–Β βÄî –≤–Β–Μ–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―ë–Ω–Μ―΄―Ö. –‰―²–Ψ–≥ βÄî –≤–Ϋ―è―²–Ϋ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –±–Β–Ζ ¬Ϊ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–Κ–Μ―΄¬Μ.
2) –¦–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö ―²–Β–Ϋ–Β–Ι
–Δ–Β–Ϋ–Η –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅―¨¬Μ –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α. –≠―²–Ψ ―Ä―è–¥ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ―¨―²―Ä–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ ―¹ ―É–Φ–±―Ä–Α–Φ–Η, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Α–Κ–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α, –Α –¥―΄―à–Α–Μ–Α. –ö–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―²―É―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Β–Ϋ: –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Ω―¨―ë―²¬Μ –Φ–Α―¹–Μ–Ψ, –¥–Α―ë―² –Φ–Α―²–Ψ–≤―΄–Ι, –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―é―â–Η–Ι ―¹–≤–Β―² ―¹–Μ–Ψ–Ι.
–€–Ψ–Ι ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²: 1 ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹―²–Ψ―è―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α –Κ 3 ―΅–Α―¹―²―è–Φ ―É–Α–Ι―²βÄë―¹–Ω–Η―Ä–Η―²–Α –Κ–Α–Κ –Φ–Β–¥–Η―É–Φ –¥–Μ―è –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η, –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Η―¹―²–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ι βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Ι. –¦―É―΅―à–Β –Ω―è―²―¨ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, ―΅–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι. –‰ –¥–Α βÄî –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ ¬Ϊfat over lean¬Μ: ―΅–Β–Φ –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è–Φ, ―²–Β–Φ ―΅―É―²―¨ –Ε–Η―Ä–Ϋ–Β–Β.
3) –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―Ä―΄–Β –Η ―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α –±–Β–Ζ ―¹–Η–Ϋ–Β–≥–Ψ
–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –±–Β–Μ–Η–Μ–Α –¥–Α―é―² ―¹–Β―Ä―΄–Β ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ. –Θ –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî ―¹–Η–Ϋ–Β–≤–Α―²–Α―è –≤―É–Α–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ –±–Β–Μ–Η–Μ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Ι¬Μ, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Κ ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–ΨβÄë–±–Β–Μ―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄―Ö –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―Ü–Β–≤. –≠―²–Ψ –±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥―΄–Φ―΅–Α―²―΄―Ö ―²–Κ–Α–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Μ–Α–Φ―É―²―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Β―Ä―΄―Ö –£–Β―Ä–Φ–Β–Β―Ä–Α –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―³–Μ–Β–Κ―¹–Ψ–≤ –≤ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Β.
–†–Α–±–Ψ―΅–Α―è –Ω–Α―Ä–Α: –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α (–Β―¹–Μ–Η –≤―΄ –Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²–Β―¹―¨ –Η ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Β―²–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η) –Η–Μ–Η ―²–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹ –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α/―³–Η–Ψ–Μ–Β―²–Α –¥–Μ―è ¬Ϊ–Ϋ–Α–Φ―ë–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –Ψ–Ω―²–Η–Κ―É ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è ―¹–Β―Ä―΄–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è―² ―¹ ―Ö―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥.
4) –½–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ε―ë–Μ―²–Ψ–≥–Ψ
¬Ϊ–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ―Ü–≤–Β―²¬Μ βÄî –Α –≤–Ψ―² –Η –Ϋ–Β―². –Γ–Φ–Β―à–Α–Ι―²–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Ε―ë–Μ―²―΄–Φ βÄî –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Ι –Ψ–Μ–Η–≤–Κ–Ψ–≤―΄–Ι, –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Μ–Η―¹―²–≤―΄, –Ω–Μ–Α―â–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ―΄. –≠―²–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ ―É –≤–Β–Ϋ–Β―Ü–Η–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―¹ leadβÄëtin yellow, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹ –ù–Β–Α–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ε―ë–Μ―²–Ψ–Ι –Ψ―Ö―Ä–Ψ–Ι, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α βÄî ―¹ –Ϋ–Η–Κ–Β–Μ―¨βÄë–Α–Ζ–Ψ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ¬Ϊ–Κ―Ä–Η―΅–Η―²¬Μ, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ.
5) –ë–Α―Ä―Ö–Α―², –Φ–Β―Ö, ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Κ–Α–Ϋ–Η
–†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―² –Η –£–Β–Μ–Α―¹–Κ–Β―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η ¬Ϊ―΅–Η―¹―²―΄–Φ¬Μ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ. –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―¹–≤–Β―²―É –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥ –≤ ―²–Β–Ϋ–Η. –· –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é ―¹ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Κ–Α (―É–Φ–±―Ä–Α –Ε–Ε―ë–Ϋ–Α―è + –Φ–Α―Ä―¹βÄë―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι), –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤ ―²–Β–Ϋ–Η βÄî –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹ –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι ―É–Μ―¨―²―Ä–Α–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―¹–≤–Β―² βÄî ―¹–Κ―É–Φ–±–Μ–Η–Ϋ–≥ ―²―ë–Ω–Μ–ΨβÄë―¹–Β―Ä―΄–Φ (―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –±–Β–Μ–Η–Μ–Α + –Κ–Α–Ω–Μ―è –Ψ―Ö―Ä―΄). –ë–Μ–Η–Κ βÄî –Ϋ–Β –±–Β–Μ―΄–Ι, –Α –Β–¥–≤–Α ―²–Β–Ω–Μ–Β–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Α–Κ ―²–Κ–Α–Ϋ―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –¥―΄―Ä―É, –Α –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―²–Β–Μ–Ψ–Φ.
6) –ü–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―è –Η ―¹―³―É–Φ–Α―²–Ψ
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–≤–Β―² –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Μ―É―΅―à–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Ι, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α―é―â–Η–Ι¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ –Β―â―ë –Μ–Η–Ω–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Β–Φ―É ―¹–Μ–Ψ―é, ―è ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ ¬Ϊ–≤―²―è–≥–Η–≤–Α―é¬Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä –≤ ―²–Β–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≥–Μ–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ε―ë―¹―²–Κ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É. –≠―²–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Α, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¹―è.
7) –ê―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―¹
–Γ―²–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Α ¬Ϊ―²―Ä–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è¬Μ ―²―Ä–Β–±―É–Β―² ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ë–Β–Ζ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Μ–Ζ―ë―² –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É, –Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ¬Ϊ–±―É–±–Ϋ–Η―²―¨¬Μ. –· –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é –Κ–Μ―é―΅–Β–≤―΄–Β ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―¹―΄ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β, –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α ―Ü–≤–Β―²–Α.
8) –ù–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―Ö―Ä–Ψ–Φ―΄ –±–Β–Ζ –≥―Ä―è–Ζ–Η
–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Η–≥–Φ–Β–Ϋ―² –Κ―Ä–Η―΅–Η―² (–Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ä―¨, –Κ–Ψ–±–Α–Μ―¨―², ―³―²–Α–Μ–Ψ), ―è –Ϋ–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è―é –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–¥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –· –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Η–≤–Α―é –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι + –Ψ―Ö―Ä–Α –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―Ü–Η―è―Ö), –Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―à–Η–≤–Α―é –Β―ë –Φ–Α–Μ―΄–Φ–Η –¥–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η. –Δ–Α–Κ ―Ü–≤–Β―² ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ¬Ϊ―É–Φ–Η―Ä–Α–Β―²¬Μ.
9) –€–Β―²–Α–Μ–Μ –Η ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ
–Γ–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –±–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ –Φ―è–≥–Κ–ΨβÄë―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±–Μ–Η–Κ, βÄî –Ε―ë―¹―²–Κ–Α―è –Ϋ–Ψ―²–Α. –ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Α―ë―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α¬Μ –≤ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Β―Ä–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Α. –Δ–Ψ –Ε–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ–Φ: –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹–≤–Β―²–Α, –Α –Ϋ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Β–Μ―É―é –Μ–Η–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―É―Ä―É.
–ü―Ä–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²―΄ –Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨
–ù–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―²–Β–Ϋ–Β–Ι –Η ¬Ϊ–Φ―É―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥¬Μ ―è―Ä–Κ–Η–Β –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Η –Ζ–≤―É―΅–Α―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅―ë―²–Μ–Η–≤–Ψ. –£ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η –≤―¹―ë –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Α―Ö:
- ―è―Ä–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β
- ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β
- –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Β –Η ―É–≥–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β
- –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Β
- –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β –Η ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³–Ϋ–Ψ–Β
–≠―²–Ψ –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤. –£–Μ–Α–¥–Β―è –Η–Φ–Η, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α βÄî –Ψ―² ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η ―É–Φ–Η―Ä–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η –Η –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η. –ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ζ–¥–Β―¹―¨ βÄî –Κ–Α–Κ –¥–Η―Ä–Η–Ε―ë―Ä: –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥–Α―ë―² ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―² ―Ü–≤–Β―²–Α.
–Δ–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Η –Η–Ζ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι
- –Γ―É―à–Κ–Α. –ö–Α―Ä–±–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ö–Ϋ―É―² –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ βÄî –≤–Β–¥–Η―²–Β ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Ι―²–Β ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤―΄–Β –±–Β–Μ–Η–Μ–Α –≤ ―¹–Φ–Β―¹―è―Ö (–Ψ–Ϋ–Η ―É―¹–Κ–Ψ―Ä―è―² –Ω–Ψ–Μ–Η–Φ–Β―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é), –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Ι―²–Β –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ―è–Φ–Η. –Γ–Η–Κ–Κ–Α―²–Η–≤―΄ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö.
- –€–Α―² vs –≥–Μ―è–Ϋ–Β―Ü. –ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Μ―é–±–Η―² –Φ–Α―²–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨: –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Α–Β―² ―¹–≤–Β―² –Η ¬Ϊ―²―è–Ϋ–Β―²¬Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –™–Μ―è–Ϋ–Β―Ü –Ϋ–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―²–Β–Ϋ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α–Β―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ï―¹–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ι –±–Μ–Β―¹―²–Η―² βÄî –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β―¹―¨ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –≤―΄―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è–Ι―²–Β –Ψ–±―â–Η–Ι –≥–Μ―è–Ϋ–Β―Ü ―Ä–Β―²―É―à–Ϋ―΄–Φ –Μ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ–Η―à–Β –≤―¹–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.
- –•–Η―Ä –Ω–Ψ ―²–Ψ―â–Β–Φ―É. –¦–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ –Ε–Η―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Μ―ë–≤–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η. –ü–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–Ζ–Κ–Η –Φ–Α―Ä―¹–Ψ–Φ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–¥–Η―è―Ö, –¥–Α–Μ―¨―à–Β βÄî ―²–Ψ–Ϋ―¨―à–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β.
- –ö–Η―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Ε–Κ–Α. –¦―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―à–Β―Ä–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Φ―É –≥―Ä―É–Ϋ―²―É –Η –Η–Φ–Ω―Ä–Η–Φ–Α―²―É―Ä–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ϋ–Β –Ω–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–Φ―É). –ö–Ψ–Ζ–Α/―¹–Η–Ϋ―²–Β―²–Η–Κ–Α –¥–Μ―è –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö –≤―É–Α–Μ–Β–Ι, ―â–Β―²–Η–Ϋ–Α βÄî –¥–Μ―è ―¹–Κ―É–Φ–±–Μ–Η–Ϋ–≥–Α.
–ß–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―é
- –ë–Η―²―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Η ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ: –Φ–Ψ―Ä―â–Η–Ϋ―΄, –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―É―à–Κ–Η, –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Μ–Ψ–Η.
- –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―²―é–±–Η–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α –≤―¹―ë. –£ ―¹–≤–Β―²―É ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²–Α –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Η―². –£ ―²–Β–Ω–Μ―΄―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Ι ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥. –£–≤–Ψ–¥–Η―²–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ü–Β–Μ–Β–≤–Ψ.
- –½–Α–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–≤–Β―²–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η ―¹–Φ–Β―¹–Η. –¦―É―΅―à–Β –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Κ―¹ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨ –Φ–Η–Κ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η, ―΅–Β–Φ ―É–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―Ü–≤–Β―² –≤ –±–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―².
- –†–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β, ―²–Β–Ϋ―¨, ―³–Ψ–Ϋ βÄî –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α. –†–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ϋ―΄ (―²―ë–Ω–Μ―΄–Β/―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β), ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―³–Α–Κ―²―É―Ä―΄ βÄî –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Ψ.
–ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ―É
–€–Η―³ ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ βÄî –Φ–Η―³. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Η ―â–Β–¥―Ä–Ψ. –£ ―¹―Ä–Β–Ζ–Α―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è –†–Β–Φ–±―Ä–Α–Ϋ–¥―²–Α, –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, –≤–Α–Ϋ –î–Β–Ι–Κ–Α ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Ι/–Η–≤–Ψ―Ä–Η–Β–≤―΄–Ι ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι. –£–Β―Ä–Φ–Β–Β―Ä –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―Ü–≤–Β―²–Α –Κ–Ψ―¹―²―è–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–Φ–Β―¹―è―Ö –¥–Μ―è ―³–Ψ–Ϋ–Α –Η ―²–Β–Ϋ–Β–Ι. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Κ ―¹ –Ψ–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―¹ ¬Ϊ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―²―é–±–Η–Κ–Α¬Μ: ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, ―¹ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η –±–Μ–Β―¹–Κ–Ψ–Φ.
–ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Η ¬Ϊ―è–Ϋ―²―Ä–Β¬Μ
–û―¹–≤–Ψ–Η–≤ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α―ë―² –Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Μ–Η–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Φ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Η ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η, –Φ―è–≥–Κ–Ψ –≤–Μ–Η―è―è –Ϋ–Α –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è. –‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ –≤–Η–Ζ―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹―Ü–Β–Μ―è―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Κ ―¹–≤–Β―²―É –Η ―¹–Η–Μ–Β –¥―É―Ö–Α, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ψ –≤―΄―¹―à–Η―Ö ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α―Ö –Η βÄî ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Α βÄî –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö ―²―É–Ω–Η–Κ–Ψ–≤.
–ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ, –Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è ―Ü–≤–Β―²–Α, ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹―ë―Ä―É –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä―É, –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² ―è–Ϋ―²―Ä―É βÄî –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―², –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Η–±―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É–Φ–Α―Ö –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι (―¹–Α–Ϋ―¹–Κ―Ä–Η―²―¹–Κ–Ψ–Β ¬Ϊyantra¬Μ βÄî ¬Ϊ–Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α¬Μ, ¬Ϊ–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ¬Μ). –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ βÄî ―¹–≤–Ψ―è ―è–Ϋ―²―Ä–Α, –Φ–Β–Ϋ―è―é―â–Α―è ―΅–Α―¹―²–Ψ―²―΄ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―², –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η:
- –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β ―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β
- ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥ –™―ë―²–Β
- –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α
- –Α–Ϋ–Α―²–Ψ–Φ–Η―è
–≠―²–Ψ ―²–Β –Ϋ–Η―²–Ψ―΅–Κ–Η, –¥―ë―Ä–≥–Α―è –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η.
–¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥
–ß―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β. –û–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ―΄–Φ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥. –ë–Β–Ζ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―Ä–Ψ–Κ–Κ–Ψ –Ϋ–Β –¥―΄―à–Η―², –Κ–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Β ―¹–Η―è–Β―², –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Β―². –î–Β―Ä–Ε–Η―²–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä–Β, –Ϋ–Ψ –≤ ―É–Ζ–¥–Β. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η―¹―¨: –≤ ―²–Β–Ϋ―è―Ö, –≤ –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―è―Ö, –≤ –≤–Β―Ä–¥–Α―΅―΅–Ψ, –≤ –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Β –Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Β. –‰ ―²–Ψ
–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
–Γ –î–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è!
–€―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι, ―É–¥–Α―΅–Η –Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –≤ ―É―΅–Β–±–Β.
"–Θ―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―΅―ë―². –£ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Γ. –ê. –†–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ" (1895).
–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –ù.–ü. –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤-–ë–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι (1868βÄ™1945).
–€―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι, ―É–¥–Α―΅–Η –Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –≤ ―É―΅–Β–±–Β.
"–Θ―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―΅―ë―². –£ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Γ. –ê. –†–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ" (1895).
–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –ù.–ü. –ë–Ψ–≥–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤-–ë–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι (1868βÄ™1945).
–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β
2 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥
–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è!
–· –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é –≤–Α―¹ ―¹ 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è βÄî –î–Ϋ―ë–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι! –Ξ–Ψ―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Α―à–Α ―É―΅―ë–±–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–ΨβÄë–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι.
–ü―É―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―é―² –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―΄ –Η –¥–Α―Ä―è―² ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è―é―² –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Η. –£–Β―Ä―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Η –Ε–Η–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –Η –Η–¥―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ.
–ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―ë―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –¥―Ä―É–Ε–±―É –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–Μ―΄–±–Ψ–Κ.
–Γ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ,
–ê–Φ―Ä–Η―²–Α –®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η –Φ–Ψ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α
–· –Ψ―² –≤―¹–Β–Ι –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é –≤–Α―¹ ―¹ 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è βÄî –î–Ϋ―ë–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι! –Ξ–Ψ―΅―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Α―à–Α ―É―΅―ë–±–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–ΨβÄë–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι.
–ü―É―¹―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―é―² –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―΄ –Η –¥–Α―Ä―è―² ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥–Ψ–Ϋ―è―é―² –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Η. –£–Β―Ä―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Η –Ε–Η–≤–Ψ–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –Η –Η–¥―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ.
–ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―ë―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –¥―Ä―É–Ε–±―É –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –¥–Μ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–Μ―΄–±–Ψ–Κ.
–Γ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ,
–ê–Φ―Ä–Η―²–Α –®–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α –Η –Φ–Ψ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α
–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β
–ü―Ä–Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β
Memes Admin
4 –Φ―¹. –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥