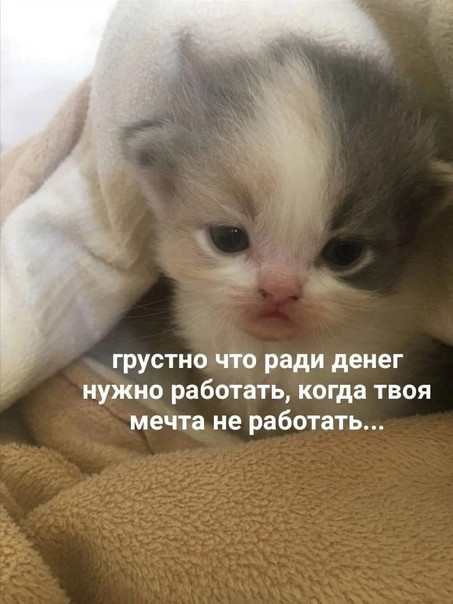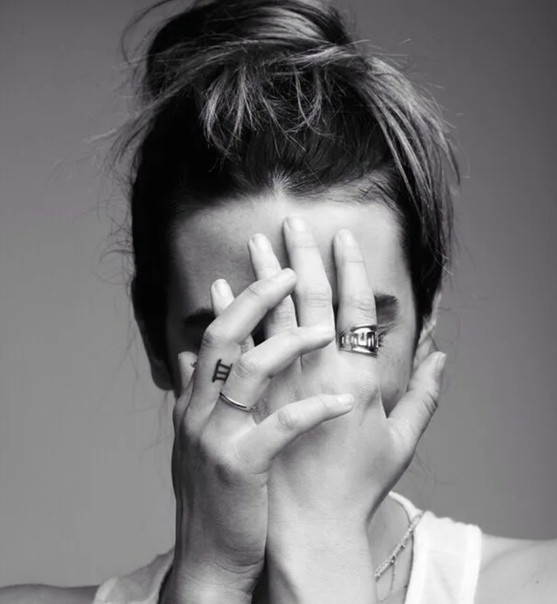2 годы назад
Невроз отложенной жизни
Передо мной сидит молодая девушка. Она горько плачет о том, что в ее жизни всё складывается не так, как ей хотелось бы. Не хватает любви и тепла в отношениях с людьми, трудные отношения с родителями, нет возможности реализовывать собственные способности и таланты, нет НИЧЕГО, что было бы интересно и значимо для неё! Я смотрю на неё внимательно и тепло:
- Правильно ли я понимаю, что твоя жизнь, которую ты проживаешь, тебе не нравится?
- Да! – она шмыгает носом. - Совсем не нравится. – и снова всхлипывает.
- А когда ты начнешь жить так, как ты хочешь? Так, как тебе нравится? – спрашиваю я.
Она задумывается, глаза ее просыхают:
- Вот будет у меня своё жильё, и тогда всё в моей жизни будет по-другому, - восклицает моя клиентка, радуясь найденному ответу.
Она смотрит на меня, ища в моем лице одобрение и подтверждение того, что эта сложная жизненная задачка решена верно. Но я молчу. Нет смысла скрывать разочарование! Теперь я знаю, что и у этой моей клиентки «синдром отложенной жизни».
Сколько раз я слышала подобные фразы от людей, мечтающих об изменениях в своей жизни. Фразы, в которых настоящая жизнь должна начаться потом, при определенных условиях, а нынешняя, та, которой живет человек, является только подготовкой к той, настоящей.
У некоторых условия новой жизни зависят от самого человека: «Вот уволюсь с этой работы…», «Вот напишу диплом…», «Вот заработаю кучу денег…», «Вот буду жить отдельно…»
Во второй половине случаев условия начала новой жизни должны обеспечить другие: партнеры, родители или родственники, а иногда и совершенно чужие! люди: «Вот перестанет пить муж…», «Вот закончит сын университет…», «Вот выйдет замуж дочь…», «Вот съедут из соседней квартиры ненавистные соседи…», «Вот переедем в другой город…»
И живет человек, из года в год откладывая на потом не просто новую и интересную работу, увлечения и хобби, отдых и путешествия, а собственное личное счастье и хорошее настроение. Так может пройти несколько лет, а иногда и десятилетий.
Еще в 20 и даже в 30 лет кажется, что все задуманные условия обязательно реализуются. Вот-вот. Стоит только еще капельку подождать. Но в 40 и 50 человек уже начинает понимать, что жизнь проходит, а долгожданные изменения так и не наступают. Человек впадает в депрессию, заболевает тяжелой неизлечимой болезнью, убегает в зависимости, пытается покончить с жизнью. Так проявляется «невроз отложенной жизни».
Этот термин придумал доктор психологических наук Владимир Серкин, автор интереснейшей книги «Хохот шамана». По его мнению, главное отличие невротика состоит в том, что нормальные люди проблемы решают, а невротик наоборот – их постоянно откладывает, объясняя, почему это необходимо сделать.
Вспоминаю, как я однажды приехала навестить своего знакомого. После развода он собирался продавать квартиру, так как решил переехать из этого города. Его жена уехала раньше и забрала почти все вещи. Квартира была пуста и запущенна. Видно было, что ремонта тут практически никогда не было. А ведь семья с двумя ребятишками прожила в этой квартире около 10 лет! Я зашла в туалет и увидела страшное старое сломанное сиденье на унитазе. Оно было настолько старое, что невозможно было даже угадать его цвет. Треснувшее до основания в нескольких местах, оно было любовно обмотано скотчем.
- Слушай, Алексей, неужели она (я имела в виду его бывшую жену) забрала с собой и сиденье от унитаза? – спросила я, подозревая бедную женщину в абсолютной меркантильности.
- Да нет, - запросто ответил он. – Это сиденье было здесь ещё тогда, когда мы купили эту квартиру у одной бабульки.
- Десять лет назад??? – выдохнула я.
- Да, - снова запросто ответил он.
- И вы десять лет садились на это сиденье? – моему изумлению не было предела.
- Да. А что такого? – настала пора удивляться ему. - Ведь мы все время собирались уехать из этого города. Поэтому и ремонт не делали, и крышку эту не меняли.
- Но ведь крышка такая стоит копейки по сравнению с твоей зарплатой. Неужели ты не мог купить новую крышку? Алексей пожал плечами.
Я перестала спорить. Вид этой печальной пустой квартиры рассказал мне, что в этом доме, а значит, и в семье, было мало любви, мало радости, мало счастья. Здесь жило только постоянное его ожидание. Не дождавшись счастья, семья распалась…
Почему люди выбирают стратегию отложенной жизни? Кто наиболее подвержен подобному жизненному сценарию?
В одной из элитных клиник Москвы «синдром отложенной жизни» был назван в числе самых новых заболеваний, которыми страдает современный человек. Подобному неврозу подвержены женщины и мужчины, молодые, зрелые и пожилые люди, вне зависимости от уровня своего достатка и доходов, живущие в селах, небольших городах и мегаполисах, на островах, полуостровах или материке. Словом, каждый из нас может оказаться в похожей ловушке.
Что же заставляет человека откладывать свою жизнь? С моей точки зрения, есть как минимум две причины делать это. Первая причина скрыта в той жизни, которую ведет человек. Для того чтобы реальная жизнь была лишь подготовкой к той, настоящей, что когда-то наступит, нужно очень сильно отвергать существующую. Почему это может происходить?
У каждого человека в детстве и юности складывается идеальный образ собственной жизни – как и где он будет жить, что будет чувствовать, чем заниматься, к чему стремиться, какой будет его семья и отношения в ней, каким будет его дом, каких жизненных высот достигнет, каков будет его материальный достаток и т.п.
И вот приходит настоящее. Но оно не такое, каким было в мыслях и мечтах. Своего дома нет или не такой, какого хотелось, работа неинтересная и бесперспективная, профессия нелюбимая, партнер не такой и не так ведет себя, как ожидалось, машины либо вообще нет, либо она не той марки…
Можно еще долго перечислять все несовпадения с теми ожиданиями, которые мы когда-то намечтали себе в детстве и юности. И чем больше таких несовпадений, тем тяжелее воспринимать реальность.
Тогда человек просыпается утром и ощущает, что он как будто живет чужой жизнью, не своей. Его место в другом городе, в другой компании, рядом с другим человеком. Реальность становится непереносимой.
Еще труднее осознавать, что ТЫ сам ошибся в выборе – в профессии, в партнере, в жизненной стратегии. А раз ошибся – значит плохой, глупый, неправильный. Как с этим жить? Если человек это понимает, у него есть три пути, три возможных решения.
Во-первых, начать менять свою жизнь. Менять работу, семью, партнера, профессию, место жительства… Но для того чтобы начать изменения, нужна решимость, смелость, поддержка друзей и близких. А страх сковывает. Смелости не хватает.
Друзья и близкие твердят: «Зачем тебе это надо? Ты с ума сошел. Все так живут. Тебе что – больше всех надо?» В голове кишат коварные мысли «Получится ли?», «Не станет ли еще хуже?», «А вдруг останусь один до конца жизни?», «Может лучше синица в руках, чем журавль в небе?» Человек принимается искать другие решения.
Второе возможное решение – отказаться от изменений. Это значит согласиться с той жизнью, которой живешь. Согласиться, что не удовлетворен жизнью с этим партнером, но остаешься с ним НАВСЕГДА. Согласиться, что неудачник, и НИКОГДА не добьешься успеха. Согласиться, что НИКОГДА не будешь счастлив. Признать это невыносимо больно.
Можно ли выдержать такую душевную боль? Такую муку? Такие страдания? Наверное, можно. Если в этих страданиях есть высокий смысл: любовь, вера, великая идея. А если нет? И человек снова отправляется на поиски решения.
В-третьих, изменения можно отложить. Человек вроде бы не отказывается изменять все в своей жизни в лучшую сторону. Наоборот, он хочет изменений, он говорит о них, он верит в них. Вот только либо не называет точного срока, либо осложняет его новыми условиями. Сначала «Я уволюсь с ненавистной работы в сентябре». Затем «Я уволюсь осенью». Потом «Я уволюсь, как только найду новую работу». Наконец, «Я слишком занят, когда работаю. Нет времени на поиски. Подожду до отпуска».
Снова и снова откладываются изменения. Снова и снова отсрочивается другая, лучшая жизнь. Снова и снова откладывается успех, благополучие, счастье, радость.
Чем может помочь работа с психотерапевтом? Это прекрасно выражено в одной восточной мудрости. Найти силы, чтобы изменить, то, что можно изменить. Принять то, что нельзя изменить. И отличить одно от другого.
Нельзя поменять своих родителей, но можно изменить свое отношение к ним. Трудно изменить свой пол, тело, внешность, возраст, но можно поменять отношение к себе. Возможно изменить отношения с партнером, не изменяя самого партнера. Можно получить новую профессию, переехать в другой город.
На самом-то деле, изменить можно многое. Если рядом будет поддержка, придающая смелость и уверенность. Разумеется, важно, чтобы ваш психотерапевт тоже не боялся изменений, не только в вашей, но и в своей жизни.
Вспомните то, о чем мечталось в детстве и юности, какой вы представляли свою взрослую жизнь, какую семью, какого партнера, какую работу? Разберитесь в своих мечтах, отделите реальность от сказки. Проститесь с детскими сказками о принце на белом коне, о большой славе, о великих подвигах. Увидьте свою реальную жизнь. Так ли уж она плоха? Что в ней особенно непереносимо? А что вам даже нравится и что менять вы и не собирались?
Как-то раз на терапевтической группе два дня подряд плакала одна женщина лет сорока. На все вопросы – о чем она плачет? что с ней? что чувствует? и т.п. – она не то чтобы не отвечала – просто не могла ответить. Как будто бы она забыла все слова, которые обозначают ее состояние, переживания и чувства. Алиса, назовем ее так, также отличалась слабым здоровьем.
У нее было значительное количество всевозможных заболеваний. Хотя она постоянно лечилась, симптомы были ее постоянными спутниками. Было ясно, что ее абсолютно не удовлетворяет собственная жизнь. Но что в ней не так?
Я все время задавала себе этот вопрос, искала ответы в истории её жизни, ее семье, ее редких и скупых описаниях собс
Передо мной сидит молодая девушка. Она горько плачет о том, что в ее жизни всё складывается не так, как ей хотелось бы. Не хватает любви и тепла в отношениях с людьми, трудные отношения с родителями, нет возможности реализовывать собственные способности и таланты, нет НИЧЕГО, что было бы интересно и значимо для неё! Я смотрю на неё внимательно и тепло:
- Правильно ли я понимаю, что твоя жизнь, которую ты проживаешь, тебе не нравится?
- Да! – она шмыгает носом. - Совсем не нравится. – и снова всхлипывает.
- А когда ты начнешь жить так, как ты хочешь? Так, как тебе нравится? – спрашиваю я.
Она задумывается, глаза ее просыхают:
- Вот будет у меня своё жильё, и тогда всё в моей жизни будет по-другому, - восклицает моя клиентка, радуясь найденному ответу.
Она смотрит на меня, ища в моем лице одобрение и подтверждение того, что эта сложная жизненная задачка решена верно. Но я молчу. Нет смысла скрывать разочарование! Теперь я знаю, что и у этой моей клиентки «синдром отложенной жизни».
Сколько раз я слышала подобные фразы от людей, мечтающих об изменениях в своей жизни. Фразы, в которых настоящая жизнь должна начаться потом, при определенных условиях, а нынешняя, та, которой живет человек, является только подготовкой к той, настоящей.
У некоторых условия новой жизни зависят от самого человека: «Вот уволюсь с этой работы…», «Вот напишу диплом…», «Вот заработаю кучу денег…», «Вот буду жить отдельно…»
Во второй половине случаев условия начала новой жизни должны обеспечить другие: партнеры, родители или родственники, а иногда и совершенно чужие! люди: «Вот перестанет пить муж…», «Вот закончит сын университет…», «Вот выйдет замуж дочь…», «Вот съедут из соседней квартиры ненавистные соседи…», «Вот переедем в другой город…»
И живет человек, из года в год откладывая на потом не просто новую и интересную работу, увлечения и хобби, отдых и путешествия, а собственное личное счастье и хорошее настроение. Так может пройти несколько лет, а иногда и десятилетий.
Еще в 20 и даже в 30 лет кажется, что все задуманные условия обязательно реализуются. Вот-вот. Стоит только еще капельку подождать. Но в 40 и 50 человек уже начинает понимать, что жизнь проходит, а долгожданные изменения так и не наступают. Человек впадает в депрессию, заболевает тяжелой неизлечимой болезнью, убегает в зависимости, пытается покончить с жизнью. Так проявляется «невроз отложенной жизни».
Этот термин придумал доктор психологических наук Владимир Серкин, автор интереснейшей книги «Хохот шамана». По его мнению, главное отличие невротика состоит в том, что нормальные люди проблемы решают, а невротик наоборот – их постоянно откладывает, объясняя, почему это необходимо сделать.
Вспоминаю, как я однажды приехала навестить своего знакомого. После развода он собирался продавать квартиру, так как решил переехать из этого города. Его жена уехала раньше и забрала почти все вещи. Квартира была пуста и запущенна. Видно было, что ремонта тут практически никогда не было. А ведь семья с двумя ребятишками прожила в этой квартире около 10 лет! Я зашла в туалет и увидела страшное старое сломанное сиденье на унитазе. Оно было настолько старое, что невозможно было даже угадать его цвет. Треснувшее до основания в нескольких местах, оно было любовно обмотано скотчем.
- Слушай, Алексей, неужели она (я имела в виду его бывшую жену) забрала с собой и сиденье от унитаза? – спросила я, подозревая бедную женщину в абсолютной меркантильности.
- Да нет, - запросто ответил он. – Это сиденье было здесь ещё тогда, когда мы купили эту квартиру у одной бабульки.
- Десять лет назад??? – выдохнула я.
- Да, - снова запросто ответил он.
- И вы десять лет садились на это сиденье? – моему изумлению не было предела.
- Да. А что такого? – настала пора удивляться ему. - Ведь мы все время собирались уехать из этого города. Поэтому и ремонт не делали, и крышку эту не меняли.
- Но ведь крышка такая стоит копейки по сравнению с твоей зарплатой. Неужели ты не мог купить новую крышку? Алексей пожал плечами.
Я перестала спорить. Вид этой печальной пустой квартиры рассказал мне, что в этом доме, а значит, и в семье, было мало любви, мало радости, мало счастья. Здесь жило только постоянное его ожидание. Не дождавшись счастья, семья распалась…
Почему люди выбирают стратегию отложенной жизни? Кто наиболее подвержен подобному жизненному сценарию?
В одной из элитных клиник Москвы «синдром отложенной жизни» был назван в числе самых новых заболеваний, которыми страдает современный человек. Подобному неврозу подвержены женщины и мужчины, молодые, зрелые и пожилые люди, вне зависимости от уровня своего достатка и доходов, живущие в селах, небольших городах и мегаполисах, на островах, полуостровах или материке. Словом, каждый из нас может оказаться в похожей ловушке.
Что же заставляет человека откладывать свою жизнь? С моей точки зрения, есть как минимум две причины делать это. Первая причина скрыта в той жизни, которую ведет человек. Для того чтобы реальная жизнь была лишь подготовкой к той, настоящей, что когда-то наступит, нужно очень сильно отвергать существующую. Почему это может происходить?
У каждого человека в детстве и юности складывается идеальный образ собственной жизни – как и где он будет жить, что будет чувствовать, чем заниматься, к чему стремиться, какой будет его семья и отношения в ней, каким будет его дом, каких жизненных высот достигнет, каков будет его материальный достаток и т.п.
И вот приходит настоящее. Но оно не такое, каким было в мыслях и мечтах. Своего дома нет или не такой, какого хотелось, работа неинтересная и бесперспективная, профессия нелюбимая, партнер не такой и не так ведет себя, как ожидалось, машины либо вообще нет, либо она не той марки…
Можно еще долго перечислять все несовпадения с теми ожиданиями, которые мы когда-то намечтали себе в детстве и юности. И чем больше таких несовпадений, тем тяжелее воспринимать реальность.
Тогда человек просыпается утром и ощущает, что он как будто живет чужой жизнью, не своей. Его место в другом городе, в другой компании, рядом с другим человеком. Реальность становится непереносимой.
Еще труднее осознавать, что ТЫ сам ошибся в выборе – в профессии, в партнере, в жизненной стратегии. А раз ошибся – значит плохой, глупый, неправильный. Как с этим жить? Если человек это понимает, у него есть три пути, три возможных решения.
Во-первых, начать менять свою жизнь. Менять работу, семью, партнера, профессию, место жительства… Но для того чтобы начать изменения, нужна решимость, смелость, поддержка друзей и близких. А страх сковывает. Смелости не хватает.
Друзья и близкие твердят: «Зачем тебе это надо? Ты с ума сошел. Все так живут. Тебе что – больше всех надо?» В голове кишат коварные мысли «Получится ли?», «Не станет ли еще хуже?», «А вдруг останусь один до конца жизни?», «Может лучше синица в руках, чем журавль в небе?» Человек принимается искать другие решения.
Второе возможное решение – отказаться от изменений. Это значит согласиться с той жизнью, которой живешь. Согласиться, что не удовлетворен жизнью с этим партнером, но остаешься с ним НАВСЕГДА. Согласиться, что неудачник, и НИКОГДА не добьешься успеха. Согласиться, что НИКОГДА не будешь счастлив. Признать это невыносимо больно.
Можно ли выдержать такую душевную боль? Такую муку? Такие страдания? Наверное, можно. Если в этих страданиях есть высокий смысл: любовь, вера, великая идея. А если нет? И человек снова отправляется на поиски решения.
В-третьих, изменения можно отложить. Человек вроде бы не отказывается изменять все в своей жизни в лучшую сторону. Наоборот, он хочет изменений, он говорит о них, он верит в них. Вот только либо не называет точного срока, либо осложняет его новыми условиями. Сначала «Я уволюсь с ненавистной работы в сентябре». Затем «Я уволюсь осенью». Потом «Я уволюсь, как только найду новую работу». Наконец, «Я слишком занят, когда работаю. Нет времени на поиски. Подожду до отпуска».
Снова и снова откладываются изменения. Снова и снова отсрочивается другая, лучшая жизнь. Снова и снова откладывается успех, благополучие, счастье, радость.
Чем может помочь работа с психотерапевтом? Это прекрасно выражено в одной восточной мудрости. Найти силы, чтобы изменить, то, что можно изменить. Принять то, что нельзя изменить. И отличить одно от другого.
Нельзя поменять своих родителей, но можно изменить свое отношение к ним. Трудно изменить свой пол, тело, внешность, возраст, но можно поменять отношение к себе. Возможно изменить отношения с партнером, не изменяя самого партнера. Можно получить новую профессию, переехать в другой город.
На самом-то деле, изменить можно многое. Если рядом будет поддержка, придающая смелость и уверенность. Разумеется, важно, чтобы ваш психотерапевт тоже не боялся изменений, не только в вашей, но и в своей жизни.
Вспомните то, о чем мечталось в детстве и юности, какой вы представляли свою взрослую жизнь, какую семью, какого партнера, какую работу? Разберитесь в своих мечтах, отделите реальность от сказки. Проститесь с детскими сказками о принце на белом коне, о большой славе, о великих подвигах. Увидьте свою реальную жизнь. Так ли уж она плоха? Что в ней особенно непереносимо? А что вам даже нравится и что менять вы и не собирались?
Как-то раз на терапевтической группе два дня подряд плакала одна женщина лет сорока. На все вопросы – о чем она плачет? что с ней? что чувствует? и т.п. – она не то чтобы не отвечала – просто не могла ответить. Как будто бы она забыла все слова, которые обозначают ее состояние, переживания и чувства. Алиса, назовем ее так, также отличалась слабым здоровьем.
У нее было значительное количество всевозможных заболеваний. Хотя она постоянно лечилась, симптомы были ее постоянными спутниками. Было ясно, что ее абсолютно не удовлетворяет собственная жизнь. Но что в ней не так?
Я все время задавала себе этот вопрос, искала ответы в истории её жизни, ее семье, ее редких и скупых описаниях собс
Показать больше
2 годы назад
Самодостаточность часто путают с фрустрированностью
Я постоянно читаю, как люди хвастаются тем, что им никто не нужен, называя себя зрелыми и самодостаточными.
Если человеку ничего и никого не нужно, он довольствуется самым малым, ему все равно, у него нет никаких сложных потребностей и амбиций, никаких сильных увлечений и страстей, это человек не самодостаточен, он фрустрирован.
Это значит все его потребности, которые когда-то были (а иногда человек с детства фрустрирован тревожностью и имеет слабые потребности, которые он мог бы развить), однажды уменьшились, а потом исчезли. Это бывает, когда реализация не удалась, наткнувшись на непреодолимые преграды (или идеи о них), либо пропала вера в реализацию, либо пропала вера в то, что реализация принесет удовольствие и компенсирует затраченные силы (сил мало). В любом случае произошло некое разочарование и поэтому потребности исчезли.
Очень плохо, что вот такое отсутствие потребностей, которое неизбежно приводит к овощному существованию, к низкоэнергетическому режиму и вялотекущей депрессии, считается "самодостаточностью", то есть называется красивым и гордым словом, предлагается как некий идеал.
Это апатия, а не самодостаточность. Это важно помнить и понимать. Многие люди почему-то радуются, когда обнаруживают, что у них исчезли амбиции, им стали не нужны деньги, им стало безразлично, как они выглядят, им больше не нужна любовь, секс их уже не интересует, друзья им давно неинтересны, работы хватает самой скромной, а можно и без нее обойтись, поскольку запросы в еде минимальны, а одежда и прочие глупости больше не нужны.
Если вы узнаете себя, остановитесь. Это не духовность, не аскетизм, не самодостаточность, это апатия. Вы фрустрированы по всем фронтам, у вас отключены ресурсы и скоро, возможно, вам станет безразлично, живы вы или нет. Тогда вас ждет еще один бонус - избавление от страха смерти. Вы будете ждать смерть с равнодушием или даже с готовностью. И хуже всего, если в этом состоянии у вас будут мысли о собственной духовности. Большая часть вашего мозга просто отключена, вы не духовны, вы больны.
Чем лучше работает психика, чем активнее пашет мозг, тем больше у человека желаний и стремлений, даже страстей. Чем больше желаний, тем больше у него энергии. Да, нереализованные желания доставляют страдания, поэтому психика, желая защититься от страданий, старается выбирать лишь те желания, которые реализуются скорее всего, а нереальные блокирует (кроме состояний аддикций, когда желание слишком велико и проще создать иллюзии реализации, чем заблокировать его). Чем больше желаний не реализуется, тем больше фрустрация, чем больше фрустрация, тем больше желаний не реализуется, и в какой-то момент человек может заметить, что он больше и не хочет ничего. Или почти не хочет. Или хочет самый минимум.
И вот здесь очень важно, как вы отнесетесь к своей фрустрации. Стоит вам облегченно сказать: какое счастье, я - импотент (аскет) и это меня больше не тревожит, фрустрация закрепится и будет усугубляться, а так же могут начать фрустрироваться и остальные сферы, которым вы указали путь. Так постепенно вы будете сползать в старость, не в биологическую, а психическую, хотя и биологическая тоже с этим связана. Ваши потоки энергии будут замедляться, ваш ток уменьшаться, ваш огонь начнет угасать. И все мысли о собственной духовности тогда - это только психзащиты, ваши иллюзии, миссия которых помочь вам спуститься в апатию безболезненно. Иллюзии, в принципе, имеют всегда только одну функцию - снизить стресс.
Чтобы всегда отличать духовность от фрустрации, нужно запомнить простую вещь: развитие не может идти по пути упрощения, оно всегда идет по пути усложнения. Если потребности просто отключаются, это деградация, а не развитие, никакой духовностью это быть не может. Развитие - это когда потребность становится более сложной, более сильной или более глубокой, переходит на другой уровень реализации. То есть человек, например, перестает интересоваться едой как способом набить желудок до отвала, а начинает интересоваться искусством кулинарии и достигает в этом уровня высокого мастерства. Его интерес к еде не снизился, даже вырос, но стал намного сложней и приобрел дополнительные (!) планы. Это самый простой пример одухотворения потребности. Примитивная потребность стала творческой, то есть более возвышенной. Возвышенная потребность - это потребность, требующая для своей реализации более развитых и сложных функций разума, нежели животная потребность, для которой достаточно простых.
Если же человек любил набивать желудок и все время думал о разнообразной еде, а потом потерял интерес к еде совсем и стал питаться овощами с водой, нельзя сказать, что он одухотворился, он просто разлюбил есть. Если при этом он развил какие-то другие потребности и горит чем-то иным, отлично (особенно если это полезно другим - чем полезней другим, не утилитарно, а для развития, тем более духовно). А вот если он точно так же разлюбил все остальное в жизни, разочаровался во всех простых радостях, а никаких сложных и возвышенных потребностей взамен не приобрел, он просто деградировал. Он не стал ни на йоту духовней.
Чем от фрустрации отличается самодостаточность? Тем, что самодостаточный человек всегда (!) имеет много внутренних ресурсов. А фрустрированный просто отключил внешние и перестал в них нуждаться. В результате самодостаточный имеет море проактивных стимулов, ему интересно и важно то, другое, третье, он горит и движется в своем развитии, и все импульсы к движению получает изнутри, мотивация в нем раскручена как турбина, ему не нужны внешние обстоятельства, чтобы чем-то загореться, чего-то захотеть как несамодостаточному, которому всегда нужны, иначе он тухнет.
А фрустрированный человек просто ничего не хочет и не ищет, он сидит на своей заднице ровно и чувствует себя, как ему кажется, неплохо, поскольку уже адаптирован к низкоэнергетическому режиму. У него ни на что нет сил, но он не ощущает этого, потому что ему ничего и не хочется. Недостаток сил человек ощущает, когда чувствует желание и видит, что реализовать его не может. А когда ничего уже и не хочется, обнаружить недостаток сил нельзя. А значит переживать не о чем, можно просто лежать и сидеть.
Многие спрашивают, ну как же выйти из фрустрации? Если ты понимаешь это, ты уже начал движение вверх, уже начал. Но понять это, находясь глубоко в ней, невозможно. Там тихо, тепло и темно, вполне комфортно. Мысль о том, что нужно вылезать в шумный, суетливый мир, полный желаний, а значит и страданий, доставляет страх. Представление о том, что фрустрация - это плохо, а выход из нее - это хорошо, в этом состоянии недоступно. И в этом ее самая главная засада. Преодолеть которую может далеко не всякий мозг.
Женщины (и мужчины), фрустрированные в любви, неправда ли вам так уютно, тихо, спокойно, мухи не кусают, а отношения - это бардак какой-то, суета и маета? Вы - в любовной фрустрации. Хорошо, если во всех остальных сферах ваша жизнь кипит... А если не кипит?
Остается следующее. Пока вы не в полной фрустрации, а всего лишь приближаетесь от малой к большой, а это можно понять по тому, что меньше и меньше вещей в жизни доставляют вам восторг и вызывают страстное желание, поменяйте мировоззрение. Перестаньте считать потребности злом, перестаньте радоваться тому, что вам не хочется, перестаньте бояться страданий от нереализации желаний, бойтесь отсутствия желаний.
Отсутствие желаний - вот она фрустрация. Фрустрация, множась, перерастает в апатию, приводит к постепенному отключению отделов мозга.
Марина Комиссарова
Я постоянно читаю, как люди хвастаются тем, что им никто не нужен, называя себя зрелыми и самодостаточными.
Если человеку ничего и никого не нужно, он довольствуется самым малым, ему все равно, у него нет никаких сложных потребностей и амбиций, никаких сильных увлечений и страстей, это человек не самодостаточен, он фрустрирован.
Это значит все его потребности, которые когда-то были (а иногда человек с детства фрустрирован тревожностью и имеет слабые потребности, которые он мог бы развить), однажды уменьшились, а потом исчезли. Это бывает, когда реализация не удалась, наткнувшись на непреодолимые преграды (или идеи о них), либо пропала вера в реализацию, либо пропала вера в то, что реализация принесет удовольствие и компенсирует затраченные силы (сил мало). В любом случае произошло некое разочарование и поэтому потребности исчезли.
Очень плохо, что вот такое отсутствие потребностей, которое неизбежно приводит к овощному существованию, к низкоэнергетическому режиму и вялотекущей депрессии, считается "самодостаточностью", то есть называется красивым и гордым словом, предлагается как некий идеал.
Это апатия, а не самодостаточность. Это важно помнить и понимать. Многие люди почему-то радуются, когда обнаруживают, что у них исчезли амбиции, им стали не нужны деньги, им стало безразлично, как они выглядят, им больше не нужна любовь, секс их уже не интересует, друзья им давно неинтересны, работы хватает самой скромной, а можно и без нее обойтись, поскольку запросы в еде минимальны, а одежда и прочие глупости больше не нужны.
Если вы узнаете себя, остановитесь. Это не духовность, не аскетизм, не самодостаточность, это апатия. Вы фрустрированы по всем фронтам, у вас отключены ресурсы и скоро, возможно, вам станет безразлично, живы вы или нет. Тогда вас ждет еще один бонус - избавление от страха смерти. Вы будете ждать смерть с равнодушием или даже с готовностью. И хуже всего, если в этом состоянии у вас будут мысли о собственной духовности. Большая часть вашего мозга просто отключена, вы не духовны, вы больны.
Чем лучше работает психика, чем активнее пашет мозг, тем больше у человека желаний и стремлений, даже страстей. Чем больше желаний, тем больше у него энергии. Да, нереализованные желания доставляют страдания, поэтому психика, желая защититься от страданий, старается выбирать лишь те желания, которые реализуются скорее всего, а нереальные блокирует (кроме состояний аддикций, когда желание слишком велико и проще создать иллюзии реализации, чем заблокировать его). Чем больше желаний не реализуется, тем больше фрустрация, чем больше фрустрация, тем больше желаний не реализуется, и в какой-то момент человек может заметить, что он больше и не хочет ничего. Или почти не хочет. Или хочет самый минимум.
И вот здесь очень важно, как вы отнесетесь к своей фрустрации. Стоит вам облегченно сказать: какое счастье, я - импотент (аскет) и это меня больше не тревожит, фрустрация закрепится и будет усугубляться, а так же могут начать фрустрироваться и остальные сферы, которым вы указали путь. Так постепенно вы будете сползать в старость, не в биологическую, а психическую, хотя и биологическая тоже с этим связана. Ваши потоки энергии будут замедляться, ваш ток уменьшаться, ваш огонь начнет угасать. И все мысли о собственной духовности тогда - это только психзащиты, ваши иллюзии, миссия которых помочь вам спуститься в апатию безболезненно. Иллюзии, в принципе, имеют всегда только одну функцию - снизить стресс.
Чтобы всегда отличать духовность от фрустрации, нужно запомнить простую вещь: развитие не может идти по пути упрощения, оно всегда идет по пути усложнения. Если потребности просто отключаются, это деградация, а не развитие, никакой духовностью это быть не может. Развитие - это когда потребность становится более сложной, более сильной или более глубокой, переходит на другой уровень реализации. То есть человек, например, перестает интересоваться едой как способом набить желудок до отвала, а начинает интересоваться искусством кулинарии и достигает в этом уровня высокого мастерства. Его интерес к еде не снизился, даже вырос, но стал намного сложней и приобрел дополнительные (!) планы. Это самый простой пример одухотворения потребности. Примитивная потребность стала творческой, то есть более возвышенной. Возвышенная потребность - это потребность, требующая для своей реализации более развитых и сложных функций разума, нежели животная потребность, для которой достаточно простых.
Если же человек любил набивать желудок и все время думал о разнообразной еде, а потом потерял интерес к еде совсем и стал питаться овощами с водой, нельзя сказать, что он одухотворился, он просто разлюбил есть. Если при этом он развил какие-то другие потребности и горит чем-то иным, отлично (особенно если это полезно другим - чем полезней другим, не утилитарно, а для развития, тем более духовно). А вот если он точно так же разлюбил все остальное в жизни, разочаровался во всех простых радостях, а никаких сложных и возвышенных потребностей взамен не приобрел, он просто деградировал. Он не стал ни на йоту духовней.
Чем от фрустрации отличается самодостаточность? Тем, что самодостаточный человек всегда (!) имеет много внутренних ресурсов. А фрустрированный просто отключил внешние и перестал в них нуждаться. В результате самодостаточный имеет море проактивных стимулов, ему интересно и важно то, другое, третье, он горит и движется в своем развитии, и все импульсы к движению получает изнутри, мотивация в нем раскручена как турбина, ему не нужны внешние обстоятельства, чтобы чем-то загореться, чего-то захотеть как несамодостаточному, которому всегда нужны, иначе он тухнет.
А фрустрированный человек просто ничего не хочет и не ищет, он сидит на своей заднице ровно и чувствует себя, как ему кажется, неплохо, поскольку уже адаптирован к низкоэнергетическому режиму. У него ни на что нет сил, но он не ощущает этого, потому что ему ничего и не хочется. Недостаток сил человек ощущает, когда чувствует желание и видит, что реализовать его не может. А когда ничего уже и не хочется, обнаружить недостаток сил нельзя. А значит переживать не о чем, можно просто лежать и сидеть.
Многие спрашивают, ну как же выйти из фрустрации? Если ты понимаешь это, ты уже начал движение вверх, уже начал. Но понять это, находясь глубоко в ней, невозможно. Там тихо, тепло и темно, вполне комфортно. Мысль о том, что нужно вылезать в шумный, суетливый мир, полный желаний, а значит и страданий, доставляет страх. Представление о том, что фрустрация - это плохо, а выход из нее - это хорошо, в этом состоянии недоступно. И в этом ее самая главная засада. Преодолеть которую может далеко не всякий мозг.
Женщины (и мужчины), фрустрированные в любви, неправда ли вам так уютно, тихо, спокойно, мухи не кусают, а отношения - это бардак какой-то, суета и маета? Вы - в любовной фрустрации. Хорошо, если во всех остальных сферах ваша жизнь кипит... А если не кипит?
Остается следующее. Пока вы не в полной фрустрации, а всего лишь приближаетесь от малой к большой, а это можно понять по тому, что меньше и меньше вещей в жизни доставляют вам восторг и вызывают страстное желание, поменяйте мировоззрение. Перестаньте считать потребности злом, перестаньте радоваться тому, что вам не хочется, перестаньте бояться страданий от нереализации желаний, бойтесь отсутствия желаний.
Отсутствие желаний - вот она фрустрация. Фрустрация, множась, перерастает в апатию, приводит к постепенному отключению отделов мозга.
Марина Комиссарова
Показать больше
2 годы назад
О том, как нам запрещают горевать
Стоит заикнуться о том, что ты на кого-то злишься или обижен, как тут же набегают светлые человечки с советами «понять и простить» обидчика. Они обязательно прибавят, что тот, кто не простит, непременно заболеет раком, а также будет страдать от неудавшейся личной жизни и многочисленных заболеваний (это помимо рака, конечно). Я долго думала, что все это идет от писательницы Луизы Хей, которая советует лечить рак (и все остальные болезни) медитациями и светлыми мыслями, а также непременно спрашивать себя, зачем вселенная послала тебе эти испытания.
Но в реальности — проблема гораздо глубже. Дело в том, что в нашей культуре, особенно среди хороших интеллигентных девочек и мальчиков, не принято проявлять эмоции, тем более негативные. Когда мы в детстве плакали, нам первым делом говорили прекратить это делать. И тут же сообщали, что мы переживаем из-за какой-то глупости. «Ну, хватит плакать! Это же совсем не больно!» Я сама ловлю себя в тот момент, когда уже открываю рот, чтобы сообщить дочери, что ей — не больно. И чтобы она прекратила плакать. Я ничего не могу поделать, это пытается вырваться из меня на автомате.
Тем более нельзя было злиться, возмущаться, чувствовать обиду или ревность и испытывать желание немедленно придушить обидчика. Это было «фу, как некрасиво! девочки так не говорят!» и «будь выше этого!». В моей семье и во всех интеллигентных семьях вокруг — был жесточайший запрет на негативные эмоции. Можно было разве что испытывать сильное горе после смерти близкого. Да и то считалось, что на такое способны только взрослые, а дети «ничего не понимают».
Все это привело к тому, что люди не только не умеют выпускать свои чувства, адекватно их выражать, но также не умеют реагировать на сильные эмоции близких и окружающих. Я много наблюдаю, например, за поведением людей в моей группе поддержки в фейсбуке. Одно из самых распространенных «утешений» — это слова о том, что «они не стоят ваших слез», «не обращайте внимания», «не реагируйте так остро» и так далее. То есть «прекратите чувствовать то, что вы чувствуете». Проблема в том, что если бы человек мог это сделать, у него бы не было этой проблемы. А она есть.
В любом горе, даже в самом маленьком, человек проходит пять стадий принятия: отрицание, агрессия, торг, депрессия и принятие. Например, у моего знакомого — нежного интеллигентного профессора — украли на вокзале сумку с документами, деньгами и компьютером, где были его научные работы за последний год. И вот он с невиданной, совершенно несвойственной ему страстью говорит о том, что он бы того вора хотел бы лично избить, даже убить, что он бы с радостью смотрел, как тому отрубают руку, как делают с ворами в мусульманских странах. И я понимаю: он, взрослый человек, мужчина, чья жизнь настолько разумна, спокойна, управляема и подконтрольна — столкнулся с неуправляемой стихией. Он чувствует, что его поимели, изнасиловали. А он в этой ситуации — абсолютно беспомощен. Его переполняет ярость и желание вернуть контроль над своей жизнью. Вместе с агрессивными, злыми словами выходят его злость и его страх. Мне тоже неуютно, я не очень понимаю, что отвечать на такие слова человеку, известному своим здравомыслием и доброжелательной мудростью.
А потом приходят они. Светлые человечки. Которые говорят, что «это всего лишь вещи». И «это не тот повод, чтобы так злиться». И «перестаньте уже об этом думать». А также: «Не держите эту злость в себе, она разрушает, простите этого человека, вам сразу станет лучше!» Но чтобы не держать в себе злость — ее надо куда-нибудь выпустить. Ну хотя бы рассказать знакомым, что бы ты сделал с вором, если бы встретил его на своем пути. Это безопасно — и для тебя, и для вора. И при этом очень помогает выпустить пар. То есть заставлять человека, переживающего какую-либо потерю, немедленно перейти от стадии агрессии к стадии принятия — так же бессмысленно, как дергать морковку за хвостик в надежде, что она от этого быстрее вырастет.
Вокруг нас ходят тысячи, миллионы людей, которые усилием воли запретили себе чувствовать. И которых возмущает, когда другие — вдруг — все же что-то чувствуют. Усталая мама, до смерти замученная крошечными погодками, жалуется подругам: она так устала, хочется иногда выброситься из окна или выбросить туда детей, выспаться и потом кинуться вслед за ними — и в ответ слышит про то, что «дети это счастье» и «как ты можешь такое говорить?!» Тем, кто решился пожаловаться на отношения с мамой, немедленно подскажут, что мама скоро умрет и «вы себе локти искусаете, а будет поздно».
Однажды, когда мне было лет десять, мы с папой ехали куда-то в огромной пробке. У меня была температура, к тому же меня укачало и сильно тошнило. Я плакала и хныкала всю дорогу, просила приехать быстрее и вообще прекратить мои мучения. И вдруг папа ужасно на меня накричал. А ему это было совсем несвойственно. Я заплакала еще горше: «Мне так плохо, а ты на меня еще и кричишь!» «Но что я могу еще сделать, — ответил папа, — если моему ребенку плохо, а я не в силах помочь?!»
Я думаю, что примерно тем же руководствовался папа подруги, который предложил забыть об изнасиловании, о котором она ему рассказала. «Выброси это из головы, — сказал он, — прекрати об этом думать все время, сейчас же все хорошо? Зачем вспоминать снова и снова?!» Он даже дошел до того, что обвинил дочь в том, что та испытывает «какое-то изощренное удовольствие» от того, что все время вспоминает то событие. А ведь все было просто: дочери нужно было пережить это, одна она не справлялась, ей нужен был папа, который бы обнял, который бы плакал вместе с ней, который бы сказал, что он бы того мужика изрезал бы на мелкие кусочки, что он бы жизнь отдал за то, чтобы в тот вечер оказаться рядом с ней и защитить ее.
Но папа лишь — попытался запретить переживать и накричал на нее за то, что ходила вечером гулять с собакой. Совсем не потому, что он — плохой человек и равнодушный отец. Он очень любящий отец. Который не умеет ни переживать горе, ни помочь пережить это горе близкому. Он может лишь сказать: «Немедленно прекрати чувствовать то, что ты чувствуешь! Мне больно от этого! Меня это ранит! Починись! Снова стань моей веселой маленькой девочкой, у которой в жизни не было ничего плохого!»
Человек, которому не дали пережить горе, которого, как морковку, тянули за хвостик для того, чтобы у окружающих снова сложилась благостная картина мира, надолго застревает в одной из стадий. У кого-то это депрессия, у многих — агрессия. Часто — пассивная агрессия. Непрожитое горе, запиханное, затолканное в самые глубины подсознания, исподволь отравляет и управляет. Заставляет ожесточаться и прекратить как чувствовать, так и сочувствовать. Заставляет говорить в ответ на сообщение, например, о выкидыше: «Да ничего страшного, у всех бывает, нового родишь! Ты же молодая, здоровая, у тебя вся жизнь впереди!» И да, я считаю, что их, этих людей, можно понять. Но прощать — вовсе не обязательно.
Алина Фаркаш
Стоит заикнуться о том, что ты на кого-то злишься или обижен, как тут же набегают светлые человечки с советами «понять и простить» обидчика. Они обязательно прибавят, что тот, кто не простит, непременно заболеет раком, а также будет страдать от неудавшейся личной жизни и многочисленных заболеваний (это помимо рака, конечно). Я долго думала, что все это идет от писательницы Луизы Хей, которая советует лечить рак (и все остальные болезни) медитациями и светлыми мыслями, а также непременно спрашивать себя, зачем вселенная послала тебе эти испытания.
Но в реальности — проблема гораздо глубже. Дело в том, что в нашей культуре, особенно среди хороших интеллигентных девочек и мальчиков, не принято проявлять эмоции, тем более негативные. Когда мы в детстве плакали, нам первым делом говорили прекратить это делать. И тут же сообщали, что мы переживаем из-за какой-то глупости. «Ну, хватит плакать! Это же совсем не больно!» Я сама ловлю себя в тот момент, когда уже открываю рот, чтобы сообщить дочери, что ей — не больно. И чтобы она прекратила плакать. Я ничего не могу поделать, это пытается вырваться из меня на автомате.
Тем более нельзя было злиться, возмущаться, чувствовать обиду или ревность и испытывать желание немедленно придушить обидчика. Это было «фу, как некрасиво! девочки так не говорят!» и «будь выше этого!». В моей семье и во всех интеллигентных семьях вокруг — был жесточайший запрет на негативные эмоции. Можно было разве что испытывать сильное горе после смерти близкого. Да и то считалось, что на такое способны только взрослые, а дети «ничего не понимают».
Все это привело к тому, что люди не только не умеют выпускать свои чувства, адекватно их выражать, но также не умеют реагировать на сильные эмоции близких и окружающих. Я много наблюдаю, например, за поведением людей в моей группе поддержки в фейсбуке. Одно из самых распространенных «утешений» — это слова о том, что «они не стоят ваших слез», «не обращайте внимания», «не реагируйте так остро» и так далее. То есть «прекратите чувствовать то, что вы чувствуете». Проблема в том, что если бы человек мог это сделать, у него бы не было этой проблемы. А она есть.
В любом горе, даже в самом маленьком, человек проходит пять стадий принятия: отрицание, агрессия, торг, депрессия и принятие. Например, у моего знакомого — нежного интеллигентного профессора — украли на вокзале сумку с документами, деньгами и компьютером, где были его научные работы за последний год. И вот он с невиданной, совершенно несвойственной ему страстью говорит о том, что он бы того вора хотел бы лично избить, даже убить, что он бы с радостью смотрел, как тому отрубают руку, как делают с ворами в мусульманских странах. И я понимаю: он, взрослый человек, мужчина, чья жизнь настолько разумна, спокойна, управляема и подконтрольна — столкнулся с неуправляемой стихией. Он чувствует, что его поимели, изнасиловали. А он в этой ситуации — абсолютно беспомощен. Его переполняет ярость и желание вернуть контроль над своей жизнью. Вместе с агрессивными, злыми словами выходят его злость и его страх. Мне тоже неуютно, я не очень понимаю, что отвечать на такие слова человеку, известному своим здравомыслием и доброжелательной мудростью.
А потом приходят они. Светлые человечки. Которые говорят, что «это всего лишь вещи». И «это не тот повод, чтобы так злиться». И «перестаньте уже об этом думать». А также: «Не держите эту злость в себе, она разрушает, простите этого человека, вам сразу станет лучше!» Но чтобы не держать в себе злость — ее надо куда-нибудь выпустить. Ну хотя бы рассказать знакомым, что бы ты сделал с вором, если бы встретил его на своем пути. Это безопасно — и для тебя, и для вора. И при этом очень помогает выпустить пар. То есть заставлять человека, переживающего какую-либо потерю, немедленно перейти от стадии агрессии к стадии принятия — так же бессмысленно, как дергать морковку за хвостик в надежде, что она от этого быстрее вырастет.
Вокруг нас ходят тысячи, миллионы людей, которые усилием воли запретили себе чувствовать. И которых возмущает, когда другие — вдруг — все же что-то чувствуют. Усталая мама, до смерти замученная крошечными погодками, жалуется подругам: она так устала, хочется иногда выброситься из окна или выбросить туда детей, выспаться и потом кинуться вслед за ними — и в ответ слышит про то, что «дети это счастье» и «как ты можешь такое говорить?!» Тем, кто решился пожаловаться на отношения с мамой, немедленно подскажут, что мама скоро умрет и «вы себе локти искусаете, а будет поздно».
Однажды, когда мне было лет десять, мы с папой ехали куда-то в огромной пробке. У меня была температура, к тому же меня укачало и сильно тошнило. Я плакала и хныкала всю дорогу, просила приехать быстрее и вообще прекратить мои мучения. И вдруг папа ужасно на меня накричал. А ему это было совсем несвойственно. Я заплакала еще горше: «Мне так плохо, а ты на меня еще и кричишь!» «Но что я могу еще сделать, — ответил папа, — если моему ребенку плохо, а я не в силах помочь?!»
Я думаю, что примерно тем же руководствовался папа подруги, который предложил забыть об изнасиловании, о котором она ему рассказала. «Выброси это из головы, — сказал он, — прекрати об этом думать все время, сейчас же все хорошо? Зачем вспоминать снова и снова?!» Он даже дошел до того, что обвинил дочь в том, что та испытывает «какое-то изощренное удовольствие» от того, что все время вспоминает то событие. А ведь все было просто: дочери нужно было пережить это, одна она не справлялась, ей нужен был папа, который бы обнял, который бы плакал вместе с ней, который бы сказал, что он бы того мужика изрезал бы на мелкие кусочки, что он бы жизнь отдал за то, чтобы в тот вечер оказаться рядом с ней и защитить ее.
Но папа лишь — попытался запретить переживать и накричал на нее за то, что ходила вечером гулять с собакой. Совсем не потому, что он — плохой человек и равнодушный отец. Он очень любящий отец. Который не умеет ни переживать горе, ни помочь пережить это горе близкому. Он может лишь сказать: «Немедленно прекрати чувствовать то, что ты чувствуешь! Мне больно от этого! Меня это ранит! Починись! Снова стань моей веселой маленькой девочкой, у которой в жизни не было ничего плохого!»
Человек, которому не дали пережить горе, которого, как морковку, тянули за хвостик для того, чтобы у окружающих снова сложилась благостная картина мира, надолго застревает в одной из стадий. У кого-то это депрессия, у многих — агрессия. Часто — пассивная агрессия. Непрожитое горе, запиханное, затолканное в самые глубины подсознания, исподволь отравляет и управляет. Заставляет ожесточаться и прекратить как чувствовать, так и сочувствовать. Заставляет говорить в ответ на сообщение, например, о выкидыше: «Да ничего страшного, у всех бывает, нового родишь! Ты же молодая, здоровая, у тебя вся жизнь впереди!» И да, я считаю, что их, этих людей, можно понять. Но прощать — вовсе не обязательно.
Алина Фаркаш
Показать больше
2 годы назад
10 вещей, которые нельзя делать за детей
Иногда стремление родителей подстелить соломки своему чаду переходит всякие границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти и набираться опыта. И тут важно не перегнуть палку.
1. Говорить вместо детей
Все начинается с тех радостных моментов, когда на вопрос в адрес карапуза: «Ой, а как же нас зовут?» мы спешим ответить: «Сашенька». Хорошо, если бы эта привычка кончалась вместе с освоением ребенком техники речи. Так нет же, мы умудряемся отвечать и за детей-подростков — в гостях, в магазине, даже дома.
И что имеем в итоге? Своими же руками забираем у сына или дочери шанс научиться отвечать за себя. Можно подсказать, что нужно говорить, если ребенок просит. Но брать инициативу в свои руки точно не нужно.
Как быть? В следующий раз, когда возникает соблазн сказать за ребенка, попробовать сдержаться и дать слово ему самому.
2. Стараться стать другом
Многие из нас стремятся стать друзьями своим детям, да такими, от которых нет секретов. Такое желание мамы или папы вполне можно понять. Но давайте копнем глубже. Кто такой друг? Это человек, который с нами на равных, на одном уровне. Да, ему можно все рассказать, но глупо рассчитывать, что он прикроет тебе спину.
У родителей другая роль — заботливых и любящих старших. Попытки слишком близко дружить не нужны, пусть дети ищут товарищей среди ровесников. А к маме и папе придут за безусловной любовью и поддержкой, когда это нужно.
Как быть? Отказаться от панибратства в отношениях, воспитывать взаимное уважение и поддержку.
3. Хотеть
Мы-то хорошо знаем, что брокколи полезнее конфет, а новые кроссовки нужнее куклы. Вот и диктуем детям, явно или скрыто, что и как они должны хотеть. А там, как в анекдоте: «Мама, я хочу кушать?» «Нет, сынок, ты замерз и хочешь погреться».
К чему приводят такие попытки? К подавлению собственного «я», своих желаний и целей. А также к привычке чувствовать себя безвольной жертвой, а если ребенок «с характером» — то к закономерному бунту против вас и всего мира.
Как быть? Искать потребности и желания ребенка. А если нужно научить полезным привычкам, делать это без насилия, не через «надо», а через «хорошо».
4. Обслуживать себя
Уже 2—3-летний ребенок может сам снимать с себя и надевать многие предметы одежды, споласкивать за собой чашку и закидывать грязные штанишки в стиральную машинку. Мало того, в этом возрасте у детей есть огромное желание все делать самому.
И что же делаем мы? Одеваем чуть ли не до свадьбы, аргументируя спешкой и тем, что «сам он не умеет». Кормим с ложечки, запрещая есть самому и познавать разные вкусы. Запрещаем самодеятельность. А потом удивляемся, что подросток не хочет помогать матери и ведет себя неаккуратно.
Как быть? По мере возможности позволять ребенку обслуживать себя самому.
5. Выбирать вкусы
Мы часто неосознанно пытаемся навязать детям свои музыкальные пристрастия, книжные предпочтения, стиль в одежде. И вроде бы хорошее намерение, но в итоге оно стирает индивидуальность ребенка. А во многих случаях вызывает справедливый протест с желанием делать все наоборот.
Как быть? Самим слушать свою музыку и смотреть любимые фильмы, а с детьми говорить об их кумирах.
6. Считать деньги
В жизни каждого ребенка рано или поздно наступает момент, когда у него появляются карманные деньги. Вот только не нужно проверять и устраивать допрос, сколько осталось, и уж тем более лазить по карманам и сумкам. Доверие так убивается вмиг.
По большому счету, что нам с того, сколько денег осталось у сына или дочери? Пусть себе копит на что-то интересное или покупает приятные мелочи.
Как быть? Учить ребенка основам финансовой грамотности и доверять ему самостоятельно распоряжаться своими деньгами.
7. Выбирать увлечения и интересы
Матери так хочется, чтобы дочь играла на скрипке, и она готова возить ее через весь город в музыкальную школу трижды в неделю. А отец настаивает, чтобы сын каждый вечер бегал на тренировки по футболу. И чаще всего родители подсознательно пытаются навязать детям или модное хобби, или собственные нереализованные амбиции.
Как быть? Набраться терпения и наблюдать за ребенком, отмечая его собственные интересы и склонности. Спрашивать, что ему нравится, что он любит. А затем помочь развиваться в сфере его интересов.
8. Присваивать себе успехи
Заботливые инста-матери забивают ленты сотнями фото с подписями «Мы покушали», «Мы поползли», «Мы сели на горшок». Конечно, во многом это поддержка родителей, но все же это не их успехи, а ребенка! Какое такое «мы»?
С ростом ребенка ситуация становится еще серьезнее. И вот родители уже могут хвастаться, что «мы» закончили институт, устроились на работу. Несложно догадаться, как все это неприятно детям.
Как быть? Радоваться успехам детей, поддерживать их, но не путать с собственными достижениями.
9. Выбирать подарки
Когда ребенок уже может говорить, он имеет право выбирать, что ему хочется получить в подарок.
Да, конечно, такой подход не всегда удобен. Но он даст нашим детям главное — умение выбирать, принимать решения и отвечать за их последствия. Во взрослой жизни эти умения лишними точно не станут.
Как быть? Позволить ребенку в пределах возможного выбирать подарки и покупки себе.
10. Влезать в личную жизнь
Особенно это касается родителей подростков. У детей свои друзья, компании, первая любовь. Все это нормально и естественно. Допросы в ключе «Кто этот мальчик?» вызовут только раздражение и отдаление.
При этом многие ребята сами поделятся с родителями сокровенным, если будут чувствовать себя в безопасности.
Как быть? Вместо допросов позволить ребенку иметь личное пространство. Не расспрашивать, если он не настроен на детали. И, конечно, ни под каким соусом не влезать в переписку детей.
ADME
Иногда стремление родителей подстелить соломки своему чаду переходит всякие границы. Мы, взрослые, не можем прожить жизнь за детей. Наше дело — помогать им расти и набираться опыта. И тут важно не перегнуть палку.
1. Говорить вместо детей
Все начинается с тех радостных моментов, когда на вопрос в адрес карапуза: «Ой, а как же нас зовут?» мы спешим ответить: «Сашенька». Хорошо, если бы эта привычка кончалась вместе с освоением ребенком техники речи. Так нет же, мы умудряемся отвечать и за детей-подростков — в гостях, в магазине, даже дома.
И что имеем в итоге? Своими же руками забираем у сына или дочери шанс научиться отвечать за себя. Можно подсказать, что нужно говорить, если ребенок просит. Но брать инициативу в свои руки точно не нужно.
Как быть? В следующий раз, когда возникает соблазн сказать за ребенка, попробовать сдержаться и дать слово ему самому.
2. Стараться стать другом
Многие из нас стремятся стать друзьями своим детям, да такими, от которых нет секретов. Такое желание мамы или папы вполне можно понять. Но давайте копнем глубже. Кто такой друг? Это человек, который с нами на равных, на одном уровне. Да, ему можно все рассказать, но глупо рассчитывать, что он прикроет тебе спину.
У родителей другая роль — заботливых и любящих старших. Попытки слишком близко дружить не нужны, пусть дети ищут товарищей среди ровесников. А к маме и папе придут за безусловной любовью и поддержкой, когда это нужно.
Как быть? Отказаться от панибратства в отношениях, воспитывать взаимное уважение и поддержку.
3. Хотеть
Мы-то хорошо знаем, что брокколи полезнее конфет, а новые кроссовки нужнее куклы. Вот и диктуем детям, явно или скрыто, что и как они должны хотеть. А там, как в анекдоте: «Мама, я хочу кушать?» «Нет, сынок, ты замерз и хочешь погреться».
К чему приводят такие попытки? К подавлению собственного «я», своих желаний и целей. А также к привычке чувствовать себя безвольной жертвой, а если ребенок «с характером» — то к закономерному бунту против вас и всего мира.
Как быть? Искать потребности и желания ребенка. А если нужно научить полезным привычкам, делать это без насилия, не через «надо», а через «хорошо».
4. Обслуживать себя
Уже 2—3-летний ребенок может сам снимать с себя и надевать многие предметы одежды, споласкивать за собой чашку и закидывать грязные штанишки в стиральную машинку. Мало того, в этом возрасте у детей есть огромное желание все делать самому.
И что же делаем мы? Одеваем чуть ли не до свадьбы, аргументируя спешкой и тем, что «сам он не умеет». Кормим с ложечки, запрещая есть самому и познавать разные вкусы. Запрещаем самодеятельность. А потом удивляемся, что подросток не хочет помогать матери и ведет себя неаккуратно.
Как быть? По мере возможности позволять ребенку обслуживать себя самому.
5. Выбирать вкусы
Мы часто неосознанно пытаемся навязать детям свои музыкальные пристрастия, книжные предпочтения, стиль в одежде. И вроде бы хорошее намерение, но в итоге оно стирает индивидуальность ребенка. А во многих случаях вызывает справедливый протест с желанием делать все наоборот.
Как быть? Самим слушать свою музыку и смотреть любимые фильмы, а с детьми говорить об их кумирах.
6. Считать деньги
В жизни каждого ребенка рано или поздно наступает момент, когда у него появляются карманные деньги. Вот только не нужно проверять и устраивать допрос, сколько осталось, и уж тем более лазить по карманам и сумкам. Доверие так убивается вмиг.
По большому счету, что нам с того, сколько денег осталось у сына или дочери? Пусть себе копит на что-то интересное или покупает приятные мелочи.
Как быть? Учить ребенка основам финансовой грамотности и доверять ему самостоятельно распоряжаться своими деньгами.
7. Выбирать увлечения и интересы
Матери так хочется, чтобы дочь играла на скрипке, и она готова возить ее через весь город в музыкальную школу трижды в неделю. А отец настаивает, чтобы сын каждый вечер бегал на тренировки по футболу. И чаще всего родители подсознательно пытаются навязать детям или модное хобби, или собственные нереализованные амбиции.
Как быть? Набраться терпения и наблюдать за ребенком, отмечая его собственные интересы и склонности. Спрашивать, что ему нравится, что он любит. А затем помочь развиваться в сфере его интересов.
8. Присваивать себе успехи
Заботливые инста-матери забивают ленты сотнями фото с подписями «Мы покушали», «Мы поползли», «Мы сели на горшок». Конечно, во многом это поддержка родителей, но все же это не их успехи, а ребенка! Какое такое «мы»?
С ростом ребенка ситуация становится еще серьезнее. И вот родители уже могут хвастаться, что «мы» закончили институт, устроились на работу. Несложно догадаться, как все это неприятно детям.
Как быть? Радоваться успехам детей, поддерживать их, но не путать с собственными достижениями.
9. Выбирать подарки
Когда ребенок уже может говорить, он имеет право выбирать, что ему хочется получить в подарок.
Да, конечно, такой подход не всегда удобен. Но он даст нашим детям главное — умение выбирать, принимать решения и отвечать за их последствия. Во взрослой жизни эти умения лишними точно не станут.
Как быть? Позволить ребенку в пределах возможного выбирать подарки и покупки себе.
10. Влезать в личную жизнь
Особенно это касается родителей подростков. У детей свои друзья, компании, первая любовь. Все это нормально и естественно. Допросы в ключе «Кто этот мальчик?» вызовут только раздражение и отдаление.
При этом многие ребята сами поделятся с родителями сокровенным, если будут чувствовать себя в безопасности.
Как быть? Вместо допросов позволить ребенку иметь личное пространство. Не расспрашивать, если он не настроен на детали. И, конечно, ни под каким соусом не влезать в переписку детей.
ADME
Показать больше
2 годы назад
О пользе злости
Чувство злости возникает в тот момент, когда некая потребность не удовлетворена. Проще говоря, мы хотим чего-то, но не получаем. Это может возникать в ситуации дефицита. Например, если мне не хватает внимания от близкого человека. Или в ситуации избытка. Например, если у меня много благодарности к человеку, а он запрещает мне ее выражать.
Чувство злости может иметь разную степень — маленькую злость обычно называют раздражением, следующий уровень — собственно злость, потом говорят о гневе, далее о ярости. Но все это, вне зависимости от слова, является по сути, злостью.
В современной мире злиться неприлично. Поводы для легального переживания и выражения злости регламентированы и сочтены. Их довольно немного и если внимательно присмотреться можно заметить, что «разрешения» на злость как бы выдаются человеку в зависимости от целей и ценностей той группы, к которой человек принадлежит. Тот кто в группе имеет власть отделения «праведного гнева» от «неправедного» получает огромную силу. По сути, теперь он может направлять всю неудовлетворенность людей, всё их раздражение в нужное ему русло. И неважно, что на самом деле, злость этих людей не связана с той целью к которой стремится группа. Мужчина разозливший утром на жену, но запрещающий себе осознавать это (так как он стремится жить в «хорошей» семье), вечером с большей вероятностью может оказаться на каком-нибудь митинге протеста.
Женщина, запрещающая себе злиться на своих детей (она хочет стать «идеальной» мамой), будет лучше других коллег по работе «рвать» на переговорах конкурентов.
Существует, некая общая тенденция, призывающая «не злиться по пустякам». В этом вроде бы безобидном с виду призыве содержится еще один, не очевидный смысл, — злиться стоит по каким-то другим, большим и более достойным поводам.
Для того, чтобы осознать всю неприятность и опасность такого положения вещей, нам стоит вернуться к началу и вспомнить, что злость возникает всегда только в одном единственном случае — потребность человека не удовлетворена. Другими словами, злость является индикатором, сигнальной лампочкой, которая просто оповещает, что нужно отрегулировать нечто на границе контакта организма и окружающей среды для того, чтобы восстановить утерянное равновесие. Одновременно с оповещением злость является и той энергией, которая выделяется организмом для того, чтобы произвести некое важное изменение.
Таким образом, если злость заблокирована (ее нельзя не только выражать, но и осознавать), — человек теряет способность саморегуляции. Это можно сравнить с автомобилем у которого не работает ни один прибор. Он может какое-то время продолжать движение, но вероятность аварии или внезапной остановки (кончился бензин) резко возрастает.
Запрет на выражение злости может быть организован разными способами. Запрет через страх (угроза наказания), запрет через вину («когда ты злишься, ты делаешь маме больно»), запрет через стыд («какая ты некрасивая когда злишься, на тебя противно смотреть»).
Последний способ, на мой взгляд, является наиболее эффективным. Человек испытывающий сильный стыд только замечая в себе просыпающуюся злость со временем постарается перестать ее замечать совсем. Стыд переживание малоприятное. Даже если никого нет рядом, оно заставляет человека испытывать боль, страдание.
Подавленная, не осознаваемая злость ищет себе новую форму. Например, человек может обратить злость на себя. Или реализовывать злость к другим людям, но в такой форме, которую почти невозможно распознать как злость. «Агрессивная забота», «удушающая любовь», «злобная жертвенность» — все это названия для «мутировавшей» злости.
К мутировавшим формам, на мой взгляд, относится и злость фанатика. В данном случае человек не осознает какая его индивидуальная потребность фрустрирована. Вместо этого он следует за сверх-идеей, которая подсказывает ему, что если он не победит «врагов», то ему (и обычно всему миру) угрожает огромная опасность. Чужой (порой выдуманный) страх принимается за свой. То есть, в данном случае, человек как бы отчуждается от собственных персональных потребностей, их осознавание затруднено. Вместо этого происходит слияние с идеей и группой людей разделяющих ее.
Отношения в паре невозможно регулировать без осознавания и выражения злости. Близкие отношения подразумевают, что потребности каждого из партнеров постоянно фрустрируются. Для того, чтобы долго удерживаться в близких отношениях необходимо, чтобы партнеры умели не только терпеть и сдерживаться (это важное условие), но и были способны замечать свою злость и прослеживать путь от этого сигнала к его источнику, то есть определять какая именно потребность была фрустрирована в контакте с партнером.
Соблазн преждевременной «святости» толкает к попытке вести «конструктивные переговоры». Такая практика в паре или семье ведет к опасным последствиям. «Интеллигентный» способ ругаться приводит к тому, что партнеры обмениваются «обратными связями» и «достигают договоренностей», но при этом совершенно умалчивают о своих чувствах. Это в свою очередь ведет к тому, что накапливается злость, обида и боль, что в конце концов приводит к эмоциональному взрыву, а злость превращается в гнев и ярость.
Говорить о своей злости возможно только при достаточном уровне доверия в отношениях, когда существует уверенность, что они прочны и выдержат это. Сообщение другому о своей злости также является сильным самораскрытием, по сути в этот момент, я говорю ему о том, какую сильную боль он причинил мне.
Федор Коноров
Чувство злости возникает в тот момент, когда некая потребность не удовлетворена. Проще говоря, мы хотим чего-то, но не получаем. Это может возникать в ситуации дефицита. Например, если мне не хватает внимания от близкого человека. Или в ситуации избытка. Например, если у меня много благодарности к человеку, а он запрещает мне ее выражать.
Чувство злости может иметь разную степень — маленькую злость обычно называют раздражением, следующий уровень — собственно злость, потом говорят о гневе, далее о ярости. Но все это, вне зависимости от слова, является по сути, злостью.
В современной мире злиться неприлично. Поводы для легального переживания и выражения злости регламентированы и сочтены. Их довольно немного и если внимательно присмотреться можно заметить, что «разрешения» на злость как бы выдаются человеку в зависимости от целей и ценностей той группы, к которой человек принадлежит. Тот кто в группе имеет власть отделения «праведного гнева» от «неправедного» получает огромную силу. По сути, теперь он может направлять всю неудовлетворенность людей, всё их раздражение в нужное ему русло. И неважно, что на самом деле, злость этих людей не связана с той целью к которой стремится группа. Мужчина разозливший утром на жену, но запрещающий себе осознавать это (так как он стремится жить в «хорошей» семье), вечером с большей вероятностью может оказаться на каком-нибудь митинге протеста.
Женщина, запрещающая себе злиться на своих детей (она хочет стать «идеальной» мамой), будет лучше других коллег по работе «рвать» на переговорах конкурентов.
Существует, некая общая тенденция, призывающая «не злиться по пустякам». В этом вроде бы безобидном с виду призыве содержится еще один, не очевидный смысл, — злиться стоит по каким-то другим, большим и более достойным поводам.
Для того, чтобы осознать всю неприятность и опасность такого положения вещей, нам стоит вернуться к началу и вспомнить, что злость возникает всегда только в одном единственном случае — потребность человека не удовлетворена. Другими словами, злость является индикатором, сигнальной лампочкой, которая просто оповещает, что нужно отрегулировать нечто на границе контакта организма и окружающей среды для того, чтобы восстановить утерянное равновесие. Одновременно с оповещением злость является и той энергией, которая выделяется организмом для того, чтобы произвести некое важное изменение.
Таким образом, если злость заблокирована (ее нельзя не только выражать, но и осознавать), — человек теряет способность саморегуляции. Это можно сравнить с автомобилем у которого не работает ни один прибор. Он может какое-то время продолжать движение, но вероятность аварии или внезапной остановки (кончился бензин) резко возрастает.
Запрет на выражение злости может быть организован разными способами. Запрет через страх (угроза наказания), запрет через вину («когда ты злишься, ты делаешь маме больно»), запрет через стыд («какая ты некрасивая когда злишься, на тебя противно смотреть»).
Последний способ, на мой взгляд, является наиболее эффективным. Человек испытывающий сильный стыд только замечая в себе просыпающуюся злость со временем постарается перестать ее замечать совсем. Стыд переживание малоприятное. Даже если никого нет рядом, оно заставляет человека испытывать боль, страдание.
Подавленная, не осознаваемая злость ищет себе новую форму. Например, человек может обратить злость на себя. Или реализовывать злость к другим людям, но в такой форме, которую почти невозможно распознать как злость. «Агрессивная забота», «удушающая любовь», «злобная жертвенность» — все это названия для «мутировавшей» злости.
К мутировавшим формам, на мой взгляд, относится и злость фанатика. В данном случае человек не осознает какая его индивидуальная потребность фрустрирована. Вместо этого он следует за сверх-идеей, которая подсказывает ему, что если он не победит «врагов», то ему (и обычно всему миру) угрожает огромная опасность. Чужой (порой выдуманный) страх принимается за свой. То есть, в данном случае, человек как бы отчуждается от собственных персональных потребностей, их осознавание затруднено. Вместо этого происходит слияние с идеей и группой людей разделяющих ее.
Отношения в паре невозможно регулировать без осознавания и выражения злости. Близкие отношения подразумевают, что потребности каждого из партнеров постоянно фрустрируются. Для того, чтобы долго удерживаться в близких отношениях необходимо, чтобы партнеры умели не только терпеть и сдерживаться (это важное условие), но и были способны замечать свою злость и прослеживать путь от этого сигнала к его источнику, то есть определять какая именно потребность была фрустрирована в контакте с партнером.
Соблазн преждевременной «святости» толкает к попытке вести «конструктивные переговоры». Такая практика в паре или семье ведет к опасным последствиям. «Интеллигентный» способ ругаться приводит к тому, что партнеры обмениваются «обратными связями» и «достигают договоренностей», но при этом совершенно умалчивают о своих чувствах. Это в свою очередь ведет к тому, что накапливается злость, обида и боль, что в конце концов приводит к эмоциональному взрыву, а злость превращается в гнев и ярость.
Говорить о своей злости возможно только при достаточном уровне доверия в отношениях, когда существует уверенность, что они прочны и выдержат это. Сообщение другому о своей злости также является сильным самораскрытием, по сути в этот момент, я говорю ему о том, какую сильную боль он причинил мне.
Федор Коноров
Показать больше
2 годы назад
Критерий взрослости
Сепарация от родителей – непростая задачка. Даже если физически отделиться – переехать, выйти замуж или жениться, начать самостоятельно себя обеспечивать, – незавершенные отношения с мамой и папой часто остаются. Мы понаблюдали за молодыми людьми, которые не только осознали свою зависимость, но и решили от нее избавиться. Путь этот оказался тернистым.
ПОКА Я ПОВЗРОСЛЕЮ
Согласие с условиями авторитарных начальников, которые требуют слишком многого и не оплачивают сверхурочные. Нежелание расстаться с любимыми, которые эмоционально холодны и не ценят то, что мы им даем. «Всезнающие» друзья и подруги, за которыми хоть в ночной клуб, хоть на митинг, потому что они лучше знают. Беспардонные окружающие, дающие непрошеные советы. Все эти персонажи – «тени» наших родителей. То есть с ними мы выстраиваем те же отношения, что и с родителями в детстве. Это говорит о том, что мы недостаточно сепарированы от матери и отца – стали взрослыми по возрасту, но так и не повзрослели психологически.
Нина Рубштейн, психолог: «Показателем того, что человек недостаточно сепарировался от родителей, являются внутренние и внешние неразрешаемые конфликты: вроде бы я делаю все “правильно”, но у меня не получается, я недоволен результатом, все идет не так, как я хочу. В процессе отделения от родителей происходит “переваривание” тех теоретических знаний о жизни, а также того практического опыта, который ребенок получил в семье. Возможно проверить эти знания на практичность, прагматичность и полезность. Во время проверки отсеивается все то, что устарело и не актуально, остается полезное и ценное. Кроме этого, человек обучается принимать самостоятельные ответственные решения и выбирать работу, друзей, партнеров на основе своих собственных ценностей и под свою ответственность, а не на основе теоретических представлений.
Взрослый человек, не прошедший этот этап, остается под властью родительских семейных сценариев и воплощает все те же ошибки, что и его родители, не в состоянии разобраться, как верно поступать в настоящем, согласно особенностям своей личности. И естественно, из-за этого ему не удается стать счастливым». Кто такой достаточно сепарированный человек? Это тот, кто сам знает, что ему нужно, делает свои жизненные выборы сознательно, а не под влиянием установок мамы и папы. Но это не исключает полезности каких-то родительских правил. Просто человек зрелый в состоянии отличить, что из этих правил ему подходит, а что – нет.
ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Мария, 37 лет: «У меня сильный страх опереться на себя. Когда я встаю перед выбором, то не могу решить, что мне делать, жду советов от мамы или папы. От подруги и возлюбленного тоже жду, чтобы разложили мою ситуацию по полкам. Чтобы сказали со стороны, что со мной и как для меня будет лучше. Где бы я ни работала, я постоянно нахожу для себя авторитарную фигуру – это как будто и мама, и папа одновременно. Например, если есть директор, который выше меня по рангу, то я начинаю подсознательно подчиняться и угодничать. В любой критике, даже если она мягкая и конструктивная, я слышу только одно: “Какая ты плохая девочка”. И я либо обороняюсь, опровергая доводы начальства, либо пытаюсь стать “хорошей девочкой”, а не собой, и делать что-то для начальника, чтобы он был доволен».
Артем, 34 года: «У меня был такой друг, от которого я зависел. Куда он, туда и я – как за мамой. Пошел учиться в тот же вуз, в который он поступал. Посещал ту же церковь, что и он, те же организации… Он ведь был такой умный и, по моим представлениям, лучше знал, куда нужно идти. И подружка была такая же, умная, все умела делать, а я ничего не умел, ее совета слушался. И к другу, и к подруге у меня были претензии – порой они были для меня “недостаточно хорошими мамами”. Не понимали меня, небрежно, на мой взгляд, ко мне относились».
Кристина, 32 года: «Все решения в своей жизни я принимала сама, и мне иногда не хватало, чтобы обо мне позаботились в этих выборах. И все эти обязанности я “навесила” на своего первого бойфренда. Поддержки в решениях и заботы, которых мне не дали родители, я требовала от него. Я именно требовала, а не просила, и мне надо было, чтобы он был рядом все 24 часа, говорил “люблю” бесконечно. Ему было нелегко, конечно. И мне тоже, уж очень я была зависима от него. Если он куда- то пропадал и не выполнял обещания, я просто сходила с ума – выпивала, курила, переедала… Мы, конечно же, расстались».
Татьяна, 33 года: «У меня был большой страх не угодить начальству на работе. Все мои карьерные достижения, а они немаленькие, были связаны с тем, чтобы доказать начальнику, что я чего-то стою. Мне было очень важно, чтобы меня ценили. Я добилась определенных высот, но в результате поняла, что мне они не нужны. Я не получала от своей должности и обязанностей достаточно радости, а в конце концов вообще перестала чувствовать удовлетворение от своей работы. Воспринимала ее как каторгу. Я эти высоты “брала” не для себя».
Ситуации, о которых рассказывают Мария, Артем, Кристина и Татьяна, иллюстрируют ту самую недостаточную сепарацию. На первом этапе молодые люди осознали сложности во взаимоотношениях с окружающими. Затем они сделали шаги для того, чтобы психологически отделиться от родителей и «вырасти».
Нина Рубштейн, психолог: «Если взрослый человек еще недостаточно отделен от родителей, это означает, в первую очередь, что его родители не хотят отпускать ребенка из семьи. Он выполняет в семье роль буфера, посредника, за счет которого супруги (или один из родителей) решают свои собственные личностные и психологические проблемы. Сепарация – это забота, в первую очередь, родителей. Именно они должны способствовать этому процессу. Если ребенок не отделился от родителей – это недостаток самостоятельности его родителей».
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
К сожалению, далеко не всегда родители осознают свою ответственность за взросление ребенка. Либо понимают ее по-своему. И продолжают пытаться воздействовать на своего взрослого сына или дочь. Мария: «Я живу с родителями, и какое-то время назад они спокойно брали мои вещи без разрешения – маникюрные ножницы, расческу… Папа мог в шесть утра включить приемник на всю мощь. Сейчас уже это не так часто происходит. Я стараюсь четко отслеживать собственные границы. Стала говорить о них родителям. Были долгие объяснения и скандалы. На это ушло года два. Сейчас я закрываю дверь в свою комнату, и, когда мама или папа хотят зайти, то спрашивают, можно ли. Иногда, переступая через очень сильное чувство вины, я говорю “нет”».
Артем: «На момент, когда я решил отделиться, я учился в вузе, в другом городе, родители высылали мне деньги, чтобы я снимал комнату. Но при этом регулярно звонили мне по телефону и спрашивали, например, что я ел. Ругали, если, по их мнению, питался неправильно. Это выглядело так, как будто они ради меня стараются, стараются. Официально безвозмездно. А по факту я расплачивался тем, что позволял себя контролировать. Я решил отказаться от помощи в оплате жилья и нашел работу по вечерам. Для меня сепарация – это, похоже, открытие собственных границ. Но отстаивать их без конфликтов у меня не получается. Сейчас я мало общаюсь с родителями, не был у них уже долго. Я бы не сказал, что это хорошо завершившаяся ситуация».
Татьяна: «В моей жизни настал период, когда я решила сменить направление профессиональной деятельности, и в какой-то момент попросила материальной помощи у мамы. Мама помогла. Потом я свои сложности решала уже без маминой помощи. Сменить направление деятельности в полной мере и снова начать себя обеспечивать пока не получается, но я в состоянии найти другие выходы. Однако мама не поддерживает меня и считает, что мне нужно срочно возвращаться в свою прежнюю профессию. Из-за этого происходят ссоры». Возможно ли «вырасти» в таких ситуациях без конфликтов? Спокойно заявить о своих границах и не реагировать на недовольство родителей? К сожалению, как показывает практика, мало кому это удается. Мама и папа – это те люди, на которых мы всегда «включаемся», даже если этого не хотим. Точно так же происходит и с теми, с кем мы пытаемся заместить наши отношения с родителями. И если мы вдруг понимаем, что отношения с этими важными для нас людьми нас не устраивают, и говорим им об этом, они сопротивляются изменениям. Мы сопротивляемся их действиям в ответ. Это часто приводит к скандалам и ссорам. Нина Рубштейн, психолог: «Это как на елку залезть и не ободрать зад. Здоровых отношений без конфликтов не бывает, поскольку конфликт – это возможность роста для всех его участников».
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Впрочем, сепарация – это не только отстаивание границ. Несепарированный человек не только позволяет нарушать свои границы, но и ждет чего-то от окружающих. Кто- то – одобрения, кто-то – любви и ласки. А кто-то ждет и порицания, к которому привык в детстве. И даже если нам удается заявить, что мы сами за себя отвечаем, и убедить в этом родителей и окружающих, все равно может так сложиться, что чего-то не хватает. Удовлетворения каких-то потребностей. И это уже следующий этап.
Артем: «Достаточно сепарированным я себя не чувствую. Меня задевает то, что говорят обо мне мои родители. Я, в общем, понимаю, что это просто их мнение и мне не обязательно на него ориентироваться. И тем не менее, если они дают оценку чему-то важному, что я делаю в своей жизни, и эта оценка не совпадает с моей, я очень сильно переживаю. Было бы хорошо, если бы я четко понимал, что в их системе координат это выглядит так, а в моей – иначе, и испытывал бы просто сожаление, не более. А пока мне трудно отказываться от соответствия их ожиданиям».
Кристина: «Я прислушиваюсь к себе: чего я хочу? Понятнее всего об этом говорит мое тело. Вот, завтра я иду на танцы, например. А если родители не одобряют моих выборов, у меня теперь все четко. Говорю им: что бы я ни делала – это моя жизнь и моя ответственность. Раньше я очень обижалась на то, что родители со мной не согласны. Теперь спокойно к этому отношусь. После того как я стала спокойна, родители перестали критиковат
Сепарация от родителей – непростая задачка. Даже если физически отделиться – переехать, выйти замуж или жениться, начать самостоятельно себя обеспечивать, – незавершенные отношения с мамой и папой часто остаются. Мы понаблюдали за молодыми людьми, которые не только осознали свою зависимость, но и решили от нее избавиться. Путь этот оказался тернистым.
ПОКА Я ПОВЗРОСЛЕЮ
Согласие с условиями авторитарных начальников, которые требуют слишком многого и не оплачивают сверхурочные. Нежелание расстаться с любимыми, которые эмоционально холодны и не ценят то, что мы им даем. «Всезнающие» друзья и подруги, за которыми хоть в ночной клуб, хоть на митинг, потому что они лучше знают. Беспардонные окружающие, дающие непрошеные советы. Все эти персонажи – «тени» наших родителей. То есть с ними мы выстраиваем те же отношения, что и с родителями в детстве. Это говорит о том, что мы недостаточно сепарированы от матери и отца – стали взрослыми по возрасту, но так и не повзрослели психологически.
Нина Рубштейн, психолог: «Показателем того, что человек недостаточно сепарировался от родителей, являются внутренние и внешние неразрешаемые конфликты: вроде бы я делаю все “правильно”, но у меня не получается, я недоволен результатом, все идет не так, как я хочу. В процессе отделения от родителей происходит “переваривание” тех теоретических знаний о жизни, а также того практического опыта, который ребенок получил в семье. Возможно проверить эти знания на практичность, прагматичность и полезность. Во время проверки отсеивается все то, что устарело и не актуально, остается полезное и ценное. Кроме этого, человек обучается принимать самостоятельные ответственные решения и выбирать работу, друзей, партнеров на основе своих собственных ценностей и под свою ответственность, а не на основе теоретических представлений.
Взрослый человек, не прошедший этот этап, остается под властью родительских семейных сценариев и воплощает все те же ошибки, что и его родители, не в состоянии разобраться, как верно поступать в настоящем, согласно особенностям своей личности. И естественно, из-за этого ему не удается стать счастливым». Кто такой достаточно сепарированный человек? Это тот, кто сам знает, что ему нужно, делает свои жизненные выборы сознательно, а не под влиянием установок мамы и папы. Но это не исключает полезности каких-то родительских правил. Просто человек зрелый в состоянии отличить, что из этих правил ему подходит, а что – нет.
ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Мария, 37 лет: «У меня сильный страх опереться на себя. Когда я встаю перед выбором, то не могу решить, что мне делать, жду советов от мамы или папы. От подруги и возлюбленного тоже жду, чтобы разложили мою ситуацию по полкам. Чтобы сказали со стороны, что со мной и как для меня будет лучше. Где бы я ни работала, я постоянно нахожу для себя авторитарную фигуру – это как будто и мама, и папа одновременно. Например, если есть директор, который выше меня по рангу, то я начинаю подсознательно подчиняться и угодничать. В любой критике, даже если она мягкая и конструктивная, я слышу только одно: “Какая ты плохая девочка”. И я либо обороняюсь, опровергая доводы начальства, либо пытаюсь стать “хорошей девочкой”, а не собой, и делать что-то для начальника, чтобы он был доволен».
Артем, 34 года: «У меня был такой друг, от которого я зависел. Куда он, туда и я – как за мамой. Пошел учиться в тот же вуз, в который он поступал. Посещал ту же церковь, что и он, те же организации… Он ведь был такой умный и, по моим представлениям, лучше знал, куда нужно идти. И подружка была такая же, умная, все умела делать, а я ничего не умел, ее совета слушался. И к другу, и к подруге у меня были претензии – порой они были для меня “недостаточно хорошими мамами”. Не понимали меня, небрежно, на мой взгляд, ко мне относились».
Кристина, 32 года: «Все решения в своей жизни я принимала сама, и мне иногда не хватало, чтобы обо мне позаботились в этих выборах. И все эти обязанности я “навесила” на своего первого бойфренда. Поддержки в решениях и заботы, которых мне не дали родители, я требовала от него. Я именно требовала, а не просила, и мне надо было, чтобы он был рядом все 24 часа, говорил “люблю” бесконечно. Ему было нелегко, конечно. И мне тоже, уж очень я была зависима от него. Если он куда- то пропадал и не выполнял обещания, я просто сходила с ума – выпивала, курила, переедала… Мы, конечно же, расстались».
Татьяна, 33 года: «У меня был большой страх не угодить начальству на работе. Все мои карьерные достижения, а они немаленькие, были связаны с тем, чтобы доказать начальнику, что я чего-то стою. Мне было очень важно, чтобы меня ценили. Я добилась определенных высот, но в результате поняла, что мне они не нужны. Я не получала от своей должности и обязанностей достаточно радости, а в конце концов вообще перестала чувствовать удовлетворение от своей работы. Воспринимала ее как каторгу. Я эти высоты “брала” не для себя».
Ситуации, о которых рассказывают Мария, Артем, Кристина и Татьяна, иллюстрируют ту самую недостаточную сепарацию. На первом этапе молодые люди осознали сложности во взаимоотношениях с окружающими. Затем они сделали шаги для того, чтобы психологически отделиться от родителей и «вырасти».
Нина Рубштейн, психолог: «Если взрослый человек еще недостаточно отделен от родителей, это означает, в первую очередь, что его родители не хотят отпускать ребенка из семьи. Он выполняет в семье роль буфера, посредника, за счет которого супруги (или один из родителей) решают свои собственные личностные и психологические проблемы. Сепарация – это забота, в первую очередь, родителей. Именно они должны способствовать этому процессу. Если ребенок не отделился от родителей – это недостаток самостоятельности его родителей».
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
К сожалению, далеко не всегда родители осознают свою ответственность за взросление ребенка. Либо понимают ее по-своему. И продолжают пытаться воздействовать на своего взрослого сына или дочь. Мария: «Я живу с родителями, и какое-то время назад они спокойно брали мои вещи без разрешения – маникюрные ножницы, расческу… Папа мог в шесть утра включить приемник на всю мощь. Сейчас уже это не так часто происходит. Я стараюсь четко отслеживать собственные границы. Стала говорить о них родителям. Были долгие объяснения и скандалы. На это ушло года два. Сейчас я закрываю дверь в свою комнату, и, когда мама или папа хотят зайти, то спрашивают, можно ли. Иногда, переступая через очень сильное чувство вины, я говорю “нет”».
Артем: «На момент, когда я решил отделиться, я учился в вузе, в другом городе, родители высылали мне деньги, чтобы я снимал комнату. Но при этом регулярно звонили мне по телефону и спрашивали, например, что я ел. Ругали, если, по их мнению, питался неправильно. Это выглядело так, как будто они ради меня стараются, стараются. Официально безвозмездно. А по факту я расплачивался тем, что позволял себя контролировать. Я решил отказаться от помощи в оплате жилья и нашел работу по вечерам. Для меня сепарация – это, похоже, открытие собственных границ. Но отстаивать их без конфликтов у меня не получается. Сейчас я мало общаюсь с родителями, не был у них уже долго. Я бы не сказал, что это хорошо завершившаяся ситуация».
Татьяна: «В моей жизни настал период, когда я решила сменить направление профессиональной деятельности, и в какой-то момент попросила материальной помощи у мамы. Мама помогла. Потом я свои сложности решала уже без маминой помощи. Сменить направление деятельности в полной мере и снова начать себя обеспечивать пока не получается, но я в состоянии найти другие выходы. Однако мама не поддерживает меня и считает, что мне нужно срочно возвращаться в свою прежнюю профессию. Из-за этого происходят ссоры». Возможно ли «вырасти» в таких ситуациях без конфликтов? Спокойно заявить о своих границах и не реагировать на недовольство родителей? К сожалению, как показывает практика, мало кому это удается. Мама и папа – это те люди, на которых мы всегда «включаемся», даже если этого не хотим. Точно так же происходит и с теми, с кем мы пытаемся заместить наши отношения с родителями. И если мы вдруг понимаем, что отношения с этими важными для нас людьми нас не устраивают, и говорим им об этом, они сопротивляются изменениям. Мы сопротивляемся их действиям в ответ. Это часто приводит к скандалам и ссорам. Нина Рубштейн, психолог: «Это как на елку залезть и не ободрать зад. Здоровых отношений без конфликтов не бывает, поскольку конфликт – это возможность роста для всех его участников».
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Впрочем, сепарация – это не только отстаивание границ. Несепарированный человек не только позволяет нарушать свои границы, но и ждет чего-то от окружающих. Кто- то – одобрения, кто-то – любви и ласки. А кто-то ждет и порицания, к которому привык в детстве. И даже если нам удается заявить, что мы сами за себя отвечаем, и убедить в этом родителей и окружающих, все равно может так сложиться, что чего-то не хватает. Удовлетворения каких-то потребностей. И это уже следующий этап.
Артем: «Достаточно сепарированным я себя не чувствую. Меня задевает то, что говорят обо мне мои родители. Я, в общем, понимаю, что это просто их мнение и мне не обязательно на него ориентироваться. И тем не менее, если они дают оценку чему-то важному, что я делаю в своей жизни, и эта оценка не совпадает с моей, я очень сильно переживаю. Было бы хорошо, если бы я четко понимал, что в их системе координат это выглядит так, а в моей – иначе, и испытывал бы просто сожаление, не более. А пока мне трудно отказываться от соответствия их ожиданиям».
Кристина: «Я прислушиваюсь к себе: чего я хочу? Понятнее всего об этом говорит мое тело. Вот, завтра я иду на танцы, например. А если родители не одобряют моих выборов, у меня теперь все четко. Говорю им: что бы я ни делала – это моя жизнь и моя ответственность. Раньше я очень обижалась на то, что родители со мной не согласны. Теперь спокойно к этому отношусь. После того как я стала спокойна, родители перестали критиковат
Показать больше
2 годы назад
Всё то, что я отказываюсь увидеть внутри себя, встретится мне во внешнем мире в форме моего истолкования Другого.
Джеймс Холлис
Джеймс Холлис
При финансовой поддержке
Memes Admin
2 мс. назад