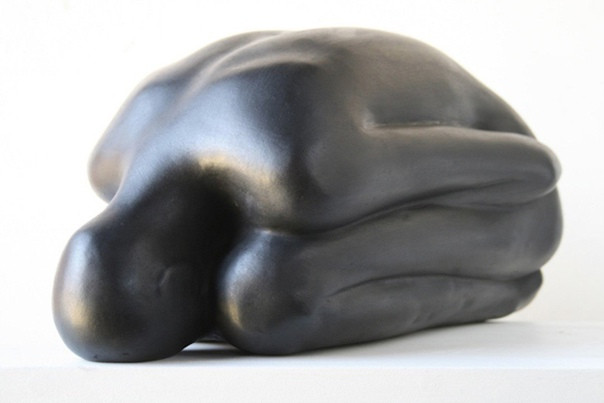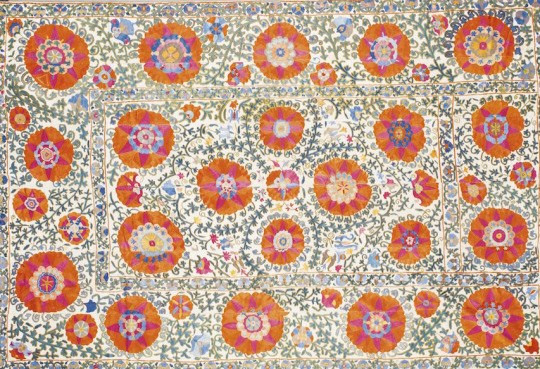Уберечь себя от горя можно только путем полного отстранения себя от жизни, а значит, и от способности испытывать радость.
Эрих Фромм
Эрих Фромм
2 годы назад
2 годы назад
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
2 годы назад
2 годы назад
Самодостаточна... или боюсь, что меня отвергнут?
Вместе с 21 веком и распространением книг о личностном развитии, высокой эффективности и лайф-менеджменте к нам пришел миф об абсолютной самодостаточности. Большое распространение получили идеи, согласно которым полноценный, взрослый и самостоятельный человек вообще не нуждается в других: ему необязательно создавать пару и вступать в брак, не требуется поддержка, а друзья нужны исключительно для веселого досуга или совместных дел, словно эмоциональная привязанность к другим людям — это нечто совершенно лишнее. В чем нас обманывает этот миф и почему он плох?
В самодостаточности как таковой нет ничего плохого. И действительно, все это является признаком определенной взрослости: способность переносить одиночество, иметь собственное мнение, даже если ваше окружение его не разделяет, способность ориентироваться прежде всего на собственный внутренний «компас», а не на оценку ваших действий и желаний со стороны. Устойчивая самооценка, в конце концов. Но если почитать некоторые книги по саморазвитию или статьи популярных психологов, складывается впечатление, что здоровый и полноценный человек — тот, кто вообще не нуждается в других и способен (слегка утрируя) весело и с пользой провести десяток лет на необитаемом острове. Хорошая идея, принятая некритично и без ощущения меры и здравого смысла, превратилась в миф об абсолютной самодостаточности.
Почему концепция «абсолютной самодостаточности» не состоятельна
Герои этого мифа, надо сказать, не так уж здоровы. Легенда о том, что можно быть стопроцентно независимым от других и счастливым, скорее отвечает потребностям травмированного человека поверить в то, что он может быть счастлив в абсолютной изоляции, без риска привязаться к другому человеку, способному ранить или уйти.
Люди — социальные существа, и для благополучия им необходима устойчивая привязанность, социальные связи и регулярное общение с себе подобными. Большинство современных психотерапевтических направлений используют идею целительности человеческого контакта и видят в его отсутствии или нарушении привязанности корни большинства проблем — от неспособности устроить личную жизнь до химических зависимостей. Чтобы чувствовать себя хорошо, нам нужны другие. Для взрослого человека это не означает полной зависимости от них. Но все-таки предполагает некоторую связанность и, да, все же некоторую взаимозависимость.
А как же «никто никому ничего не должен»?
Смотря как понимать эту фразу. То, что другие не обязаны соответствовать нашим ожиданиям и переделывать себя под наш идеал «лучшего друга», «мужчины/женщины мечты» или «идеального ребенка» — правда. Как и мы не обязаны переделывать свой характер или жизнь в угоду чужим ожиданиям.
Но связанность с другим человеком предполагает ответственность перед ним. Брак — это обязательства друг перед другом. Никто не может жить в семье и быть абсолютно независим. Невозможно даже иметь друзей и быть полностью свободным от обязательств перед ними: дружба строится на регулярном контакте, взаимной поддержке и совместном времяпрепровождении. Меру и степень этой ответственности, как и свои ожидания от союза, взрослые люди вполне могут оговаривать и регулировать. Но когда в паре (неважно, супругов или друзей) все чаще звучит фраза: «Знаешь, я тебе ничего не должен (не должна)» — обычно это плохой признак, что союз движется к распаду.
Кто же такой «стопроцентно самодостаточный человек»
Дженей и Берри Уайнхолд, авторы книги «Освобождение от созависимости», в продолжении своего бестселлера описали портрет «контрзависимого» человека. Этот портрет очень похож на того самого «абсолютно самодостаточного» героя статей и книг. Он или она стремится к невероятно высоким достижениям в своей деятельности, часто страдает от перфекционизма, но при этом не успешен в построении связей с другими людьми и избегает их. Со стороны такие люди могут выглядеть очень независимыми, успешными и ни в ком не нуждающимися. Но под этой эффектной оболочкой часто кроется подавляемая потребность в близости и сильный страх отвержения.
Контрзависимые люди нередко отказываются от создания пары и либо вообще не имеют личной жизни, либо ограничиваются мимолетными романами и связями на одну ночь. Им страшно раскрываться перед другим человеком, практически невозможно просить о помощи или соглашаться с чьими-то идеями, кроме своих, они предпочитают действовать в одиночку. С трудом распознают и выражают свои чувства, предпочитая оставаться в плоскости действий и решений. Часто они глушат одиночество избыточной активностью буквально на пределе возможностей.
Авторы книги отмечают, что контрзависимость по сути — обратная сторона созависимости, и у них общие корни. Это травма или травматические отношения в детстве, которые нарушили формирование здоровой привязанности у ребенка. Это может быть единичное травмирующее событие: сексуальное насилие, смерть кого-то из близких и так далее. Но часто причиной нарушения привязанности становятся дисфункциональные отношения в семье: жестокое обращение с ребенком, пренебрежение его физическими потребностями или игнорирование чувств маленького человека (воспитание по принципу: «Обут, одет, накормлен — что тебе еще нужно?»). Или просто такая разобщенность в семье, когда ребенок не чувствует поддержки, одобрения и «тыла», помогающего справляться с трудностями.
Вырастая, ребенок укрепляется в мысли, что доверять кому бы то ни было небезопасно, а близкие отношения — не источник поддержки и радости, а только источник проблем и боли, связанной с отвержением.
Если им так легче, чем это плохо?
Любая картина, искажающая реальность, в итоге оказывается деструктивной. Не признавать и игнорировать часть своих потребностей означает, как минимум, быть неспособным их удовлетворить. А если развить эту мысль — то еще и позволить им управлять собой.
Контрзависимые люди надеются, что миф о собственной неуязвимости и полной самодостаточности защитит их от плохих отношений. К сожалению, выходит обычно наоборот. Голод по человеческому теплу, поддержке и участию копится и в конце концов толкает в очень плохие отношения — любовные, дружеские, приятельские. Давно не евший человек готов съесть продукт любого качества, чтобы не умереть.
Человек, который был травмирован плохими отношениями с близкими в детстве, а впоследствии избегает близости и только от крайнего голода (огромной тревоги, переполняющего одиночества, сильной грусти) позволяет себе редкие контакты с другими, не имеет шансов научиться строить стабильные и спокойные отношения. Можно сказать, что ему не хватает тренировки в этом. Более того, поскольку «стандарты качества» в общении у него получаются заниженными (когда сильно голоден, разбираться и присматриваться некогда), он снова и снова травмируется, выбирая ранящих или покидающих его партнеров, токсичных друзей, попадая в приятельские компании, где развита конкуренция и обесценивающие шутки и нет привязанности. Травма таким образом только усиливается.
Поэтому идея, поддерживающая изоляцию и стопроцентную замкнутость на себе как норму, скорее вредна. Она укрепляет травму и травматические способы поведения, ничего не давая взамен. Человеку, который обнаружил у себя признаки контрзависимости и стремление отталкивать других людей, скорее было бы полезно делать небольшие безопасные шаги в обратном направлении. Например, попробовать признать, что вам иногда нужна помощь или одобрение других людей.
Попытаться, хотя бы «издалека» и по одному шагу, налаживать устойчивые связи с другими людьми. Пусть это будет встреча с приятелем раз в неделю или регулярно собирающаяся компания, где будут приняты поддержка, одобрение и не будет подтрунивания и злых шуток. Вариантов масса — выбор за самим человеком.
Яна Филимонова
Вместе с 21 веком и распространением книг о личностном развитии, высокой эффективности и лайф-менеджменте к нам пришел миф об абсолютной самодостаточности. Большое распространение получили идеи, согласно которым полноценный, взрослый и самостоятельный человек вообще не нуждается в других: ему необязательно создавать пару и вступать в брак, не требуется поддержка, а друзья нужны исключительно для веселого досуга или совместных дел, словно эмоциональная привязанность к другим людям — это нечто совершенно лишнее. В чем нас обманывает этот миф и почему он плох?
В самодостаточности как таковой нет ничего плохого. И действительно, все это является признаком определенной взрослости: способность переносить одиночество, иметь собственное мнение, даже если ваше окружение его не разделяет, способность ориентироваться прежде всего на собственный внутренний «компас», а не на оценку ваших действий и желаний со стороны. Устойчивая самооценка, в конце концов. Но если почитать некоторые книги по саморазвитию или статьи популярных психологов, складывается впечатление, что здоровый и полноценный человек — тот, кто вообще не нуждается в других и способен (слегка утрируя) весело и с пользой провести десяток лет на необитаемом острове. Хорошая идея, принятая некритично и без ощущения меры и здравого смысла, превратилась в миф об абсолютной самодостаточности.
Почему концепция «абсолютной самодостаточности» не состоятельна
Герои этого мифа, надо сказать, не так уж здоровы. Легенда о том, что можно быть стопроцентно независимым от других и счастливым, скорее отвечает потребностям травмированного человека поверить в то, что он может быть счастлив в абсолютной изоляции, без риска привязаться к другому человеку, способному ранить или уйти.
Люди — социальные существа, и для благополучия им необходима устойчивая привязанность, социальные связи и регулярное общение с себе подобными. Большинство современных психотерапевтических направлений используют идею целительности человеческого контакта и видят в его отсутствии или нарушении привязанности корни большинства проблем — от неспособности устроить личную жизнь до химических зависимостей. Чтобы чувствовать себя хорошо, нам нужны другие. Для взрослого человека это не означает полной зависимости от них. Но все-таки предполагает некоторую связанность и, да, все же некоторую взаимозависимость.
А как же «никто никому ничего не должен»?
Смотря как понимать эту фразу. То, что другие не обязаны соответствовать нашим ожиданиям и переделывать себя под наш идеал «лучшего друга», «мужчины/женщины мечты» или «идеального ребенка» — правда. Как и мы не обязаны переделывать свой характер или жизнь в угоду чужим ожиданиям.
Но связанность с другим человеком предполагает ответственность перед ним. Брак — это обязательства друг перед другом. Никто не может жить в семье и быть абсолютно независим. Невозможно даже иметь друзей и быть полностью свободным от обязательств перед ними: дружба строится на регулярном контакте, взаимной поддержке и совместном времяпрепровождении. Меру и степень этой ответственности, как и свои ожидания от союза, взрослые люди вполне могут оговаривать и регулировать. Но когда в паре (неважно, супругов или друзей) все чаще звучит фраза: «Знаешь, я тебе ничего не должен (не должна)» — обычно это плохой признак, что союз движется к распаду.
Кто же такой «стопроцентно самодостаточный человек»
Дженей и Берри Уайнхолд, авторы книги «Освобождение от созависимости», в продолжении своего бестселлера описали портрет «контрзависимого» человека. Этот портрет очень похож на того самого «абсолютно самодостаточного» героя статей и книг. Он или она стремится к невероятно высоким достижениям в своей деятельности, часто страдает от перфекционизма, но при этом не успешен в построении связей с другими людьми и избегает их. Со стороны такие люди могут выглядеть очень независимыми, успешными и ни в ком не нуждающимися. Но под этой эффектной оболочкой часто кроется подавляемая потребность в близости и сильный страх отвержения.
Контрзависимые люди нередко отказываются от создания пары и либо вообще не имеют личной жизни, либо ограничиваются мимолетными романами и связями на одну ночь. Им страшно раскрываться перед другим человеком, практически невозможно просить о помощи или соглашаться с чьими-то идеями, кроме своих, они предпочитают действовать в одиночку. С трудом распознают и выражают свои чувства, предпочитая оставаться в плоскости действий и решений. Часто они глушат одиночество избыточной активностью буквально на пределе возможностей.
Авторы книги отмечают, что контрзависимость по сути — обратная сторона созависимости, и у них общие корни. Это травма или травматические отношения в детстве, которые нарушили формирование здоровой привязанности у ребенка. Это может быть единичное травмирующее событие: сексуальное насилие, смерть кого-то из близких и так далее. Но часто причиной нарушения привязанности становятся дисфункциональные отношения в семье: жестокое обращение с ребенком, пренебрежение его физическими потребностями или игнорирование чувств маленького человека (воспитание по принципу: «Обут, одет, накормлен — что тебе еще нужно?»). Или просто такая разобщенность в семье, когда ребенок не чувствует поддержки, одобрения и «тыла», помогающего справляться с трудностями.
Вырастая, ребенок укрепляется в мысли, что доверять кому бы то ни было небезопасно, а близкие отношения — не источник поддержки и радости, а только источник проблем и боли, связанной с отвержением.
Если им так легче, чем это плохо?
Любая картина, искажающая реальность, в итоге оказывается деструктивной. Не признавать и игнорировать часть своих потребностей означает, как минимум, быть неспособным их удовлетворить. А если развить эту мысль — то еще и позволить им управлять собой.
Контрзависимые люди надеются, что миф о собственной неуязвимости и полной самодостаточности защитит их от плохих отношений. К сожалению, выходит обычно наоборот. Голод по человеческому теплу, поддержке и участию копится и в конце концов толкает в очень плохие отношения — любовные, дружеские, приятельские. Давно не евший человек готов съесть продукт любого качества, чтобы не умереть.
Человек, который был травмирован плохими отношениями с близкими в детстве, а впоследствии избегает близости и только от крайнего голода (огромной тревоги, переполняющего одиночества, сильной грусти) позволяет себе редкие контакты с другими, не имеет шансов научиться строить стабильные и спокойные отношения. Можно сказать, что ему не хватает тренировки в этом. Более того, поскольку «стандарты качества» в общении у него получаются заниженными (когда сильно голоден, разбираться и присматриваться некогда), он снова и снова травмируется, выбирая ранящих или покидающих его партнеров, токсичных друзей, попадая в приятельские компании, где развита конкуренция и обесценивающие шутки и нет привязанности. Травма таким образом только усиливается.
Поэтому идея, поддерживающая изоляцию и стопроцентную замкнутость на себе как норму, скорее вредна. Она укрепляет травму и травматические способы поведения, ничего не давая взамен. Человеку, который обнаружил у себя признаки контрзависимости и стремление отталкивать других людей, скорее было бы полезно делать небольшие безопасные шаги в обратном направлении. Например, попробовать признать, что вам иногда нужна помощь или одобрение других людей.
Попытаться, хотя бы «издалека» и по одному шагу, налаживать устойчивые связи с другими людьми. Пусть это будет встреча с приятелем раз в неделю или регулярно собирающаяся компания, где будут приняты поддержка, одобрение и не будет подтрунивания и злых шуток. Вариантов масса — выбор за самим человеком.
Яна Филимонова
Показать больше
2 годы назад
Жадность и эгоизм: страх, что нас любят НЕ просто так
Эта статья оказалась сложней, чем я полагал. Несколько раз за нее садился и откладывал. Нечто внутри сопротивлялось и поднимало тему со скрипом, словно не желая сдавать некоторые устаревшие позиции и убеждения о жадности и эгоизме. Наверное, если попросить обывателя описать эти явления, скорей всего на ум будут приходить примеры поступков по типу: «эгоизм это, когда…» То есть само переживание человек, как правило, принимает за чистую монету, а внимание соскальзывает на события, которые эгоизмом окрашиваются.
Как я это вижу,
Не существует ни эгоизма, ни жадности
Есть только элементы, которые словно пиксели на мониторе создают их иллюзорные образы. И пока мы не различаем эти составные частицы, образ кажется целостным и реальным. Эта метафора с пикселями подходит практически под любое явление. В этой статье я попробую разложить эгоизм и жадность на элементы.
Ткань жадности и эгоизма
На событийном уровне эгоистичными жадинами мы считаем тех людей, которые не хотят разделять свои блага с нами. То есть, по такой логике жадиной в наших глазах может стать совершенно любой человек, отказавшийся даровать нам свои активы – будь то деньги, личное время, или какое-нибудь имущество.
И вот здесь правильный вопрос звучит так: а при каких условиях нам жертвуют свои блага другие люди? Когда один человек хочет как-либо одарить другого? Ответ на этот вопрос настолько прост, насколько же и неприемлем для самооценки обывателя. Так вот, благодетель жертвует свои блага при таких условиях, когда хочет понравиться.
То есть, если человек захочет выглядеть хорошим в наших глазах, вероятно, он будет способен на так называемую щедрость по отношению к нашей персоне.
И напротив, жадными эгоистами мы считаем тех людей, которые не стараются нам понравиться. А почему они не стараются? Потому что плохие? Нам, конечно, так думать – удобней всего. А может, потому что плохие мы? Это – «палка о двух концах». Человек не старается нам понравиться, когда не видит для этого причин. Мы не святые, и обычно стремимся нравиться другим, когда чувствуем, что для нас это выгодно. То есть, желая выглядеть хорошими в чьих-то глазах, мы так или иначе рассчитываем что-то заполучить…
И вот здесь вступает в игру наше многострадальное самолюбие, на одной стороне которого таится комплекс неполноценности, а на другой – чувство собственной важности. Не зря говорят, что гордыня – отец всех пороков.
Мы чувствуем чужую жадность, когда переживаем, что нас не любят и не уважают, а только используют за наши блага. Мы жаждем искренней безусловной любви к собственной персоне, на которую по большому счету способны лишь святые и некоторые матери в отношении своих чад. Мы обманываем себя надеждой, что такая любовь возможна. Но по факту, мы живем в мире потребительских отношений, где каждый любит не безусловно, а по какой-то причине – за конкретные качества, черты и свойства.
Мы все – «продажные твари», в своих отношениях подкупающие друг друга, кто чем может. А когда нам не хватает реальных благ, мы осваиваем искусство рекламы – позиционирования иллюзорных образов и качеств. Строим из себя не весть кого, чтобы искусственным имиджем заслужить любовь и уважение. И в этом еще полбеды. Ладно бы, если мы поступали так сознательно. Но в какой-то момент мы настолько завираемся, что и сами начинаем верить, будто и вправду являемся тем самым нормальным хорошим человеком, образ которого демонстрируем всем окружающим. Именно так в разладе с собою возникают неврозы – психосоматические недуги, отравляющие нашу жизнь.
Мы становимся жадными собственниками, когда хотим держать под контролем наши отношения с другими людьми. Мы пытаемся контролировать чужие чувства, когда хотим, чтобы нас любили и уважали безусловно – то есть без причины. Иначе мы чувствуем фальшь – унизительный обман, такое гадкое переживание, словно человек нас на самом деле совсем не любит, и выкинет из своего существования, как только мы перестанем спонсировать его присутствие в нашей жизни. Но ведь как уже говорилось – мы не святые и не умеем любить за просто так!
Даже когда так называемую «жадность» проявляет чужой человек, которого мы раньше не видели, у нас может возникнуть невротичная реакция, потому что за чьей то бережливостью, мы обнаруживаем «неуважительное» отношение к нашей персоне.
Иными словами, жадность и эгоизм – это личный страх, что нас любят не просто так, а по какой-то причине. Просто подспудно мы ощущаем, когда из нас хотят сделать лопухов, и в качестве большой и чистой любви пропихнуть типичные продажные отношения. А честность нас зачастую тоже не вполне устраивает, потому что все-таки в любовь хочется верить!
Большая часть всех приятельских и дружеских связей также вертится вокруг таких вот взаимовыгодных неврозов. А если человеку от нас ничего не надо, наше уязвленное самолюбие может окрестить его сволочью. Но по факту ничего дурного в чужом равнодушии нет. Просто наша персона кому-то показалась неинтересной – может быть, человек устал, у него мало времени, или его раздражает рисунок на нашей рубашке. У всех свои предпочтения. Это – нормально. Но этот факт кажется тем унизительней, чем больше ожиданий мы накрутили вокруг жертвы наших потребностей.
Травмирующий факт для самолюбия обывателя в теле взрослого человека заключается в том, что никто никому ничего не должен. А если мы посчитали иначе, то это – наша персональная проблема.
Для личного психического здоровья лучше быть сознательным альфонсом или осознающей свое положение проституткой, нежели невротиком, который ожидает халявной «безусловной» любви от окружающих.
Мотивы жадности и эгоизма
Вот и получается, что если человек действует честно, не прикрывая свои истинные мотивы благородной ложью, тут-то он и становится «нехорошим» жадиной и «безжалостным» эгоистом, не пожелавшим церемониться с нашими неврозами.
Иногда мы считаем эгоистами людей, которые берегут свое внимание и ценят личное время. Вроде как, если человек не читает наш бесполезный спам где-нибудь «ВКонтакте», значит, он ушлый эгоист, который вместо того, чтобы проникаться нашей глубокомысленной «чушью», занимается какими-то своими совершенно бесполезными для нас делами.
Зачастую чужим эгоизмом нам нравится объяснять собственную потребность в бесплатной халяве. Ведь куда проще выманить уже готовые блага у имущих, нежели заработать их самостоятельно. Вроде как, если человек, сумел себя обеспечить, неплохо было бы ему понравиться, чтобы теперь он обеспечил и нашу персону, раз уж это у него так хорошо получается.
Дабы человек оказался нашим должником, необязательно ему нравиться. Чтобы вытянуть чужие блага, можно льстить, унижаться, апеллировать к жалости, чувству долга, благородству, превосходству, величию и другим признакам «хорошего» человека. Подойдет все, что заставит «щедрого» благодетеля доказывать, что он – не жадина и не эгоист.
Эгоистами мы считаем «нехороших» людей, которых принято осуждать и даже как-то наказывать. Я уже подробно озвучивал идею, что каждый человек в конечном итоге все делает исключительно для себя.
Каждый повинуется закону кнута и пряника. Неважно, кто перед нами – герой, злодей, офисный служащий, любящая мать – никто не может иначе. Мы все – «собачки Павлова», подчиненные двум базовым рефлексам страдания и удовольствия. Каждый из нас в этой жизни просто избегает боли и выбирает кайф – кто как умеет.
Все мы бредем за морковкой приятных ощущений. Гении, мудрецы и прочие продвинутые юзеры от типичных аутсайдеров ничем не отличаются – все та же погоня за кайфом. Разница между всеми нами только в том, что каждый имеет доступ к своим уникальным источникам счастья.
Грубые люди действуют грубо, срывая поверхностные впечатления не потому что они «плохие», а потому что иначе не могут. Именно так – грубо и поверхностно доступный на их этапе кайф дергает за рычаги их разума.
Дальновидные «мудрецы» наслаждаются жизнью утонченно с наименьшим количеством разрушительных последствий, потому что различают такие ниточки счастья, дергая за которые получают свой, недостижимый для других кайф.
Никто не может иначе. Каждый подчиняется тем импульсам, которые способен различить на периферии своего сознания. Все мы – порождения неизбежного личного опыта.
Есть такой как бы глобальный стереотип, который говорит, что правильные люди должны поступать правильно. А если ты неправильный, а жадный и эгоистичный, то обязан переживать стыд, страх и другие неприятные импульсы, которые должны побуждать исправляться, чтобы соответствовать этому глобальному стереотипу.
В итоге нашим всемогущим разумом помыкают две дополнительные пружинки: самоуважение и самобичевание. Следуя нормативам, мы себя уважаем, нарушая правила – грызем. Так глобальный закон кнута и пряника реализуется в социальном мире, побуждая нас доказывать свою нормальность.
Все наше поведение, все благородные намерения и высокие устремления подчиняются простым импульсам «приятно» и «неприятно». Но нам не хочется верить, что мы настолько примитивны… Поэтому мы выбираем думать что, наши «правильные» поступки – вовсе не от радости самоутверждения, а проявление какого-нибудь святого великодушия.
Не существует ни жадности, ни эгоизма. Есть только наше самолюбие, загнанное беспрерывной гонкой самоутверждения, вечно сканирующее реальность в поисках любви и уважения.
И нет ничего дурного в социальном бартере, где каждый делится тем, что имеет. Просто, во избежание невротичных страхов, при совершении обмена, не стоит жульничать, выдавая саморекламу за реальность. И тогда этот обмен «энергиями» вполне можно называть взаимовыручкой.
Автор: Игорь Саторин
Эта статья оказалась сложней, чем я полагал. Несколько раз за нее садился и откладывал. Нечто внутри сопротивлялось и поднимало тему со скрипом, словно не желая сдавать некоторые устаревшие позиции и убеждения о жадности и эгоизме. Наверное, если попросить обывателя описать эти явления, скорей всего на ум будут приходить примеры поступков по типу: «эгоизм это, когда…» То есть само переживание человек, как правило, принимает за чистую монету, а внимание соскальзывает на события, которые эгоизмом окрашиваются.
Как я это вижу,
Не существует ни эгоизма, ни жадности
Есть только элементы, которые словно пиксели на мониторе создают их иллюзорные образы. И пока мы не различаем эти составные частицы, образ кажется целостным и реальным. Эта метафора с пикселями подходит практически под любое явление. В этой статье я попробую разложить эгоизм и жадность на элементы.
Ткань жадности и эгоизма
На событийном уровне эгоистичными жадинами мы считаем тех людей, которые не хотят разделять свои блага с нами. То есть, по такой логике жадиной в наших глазах может стать совершенно любой человек, отказавшийся даровать нам свои активы – будь то деньги, личное время, или какое-нибудь имущество.
И вот здесь правильный вопрос звучит так: а при каких условиях нам жертвуют свои блага другие люди? Когда один человек хочет как-либо одарить другого? Ответ на этот вопрос настолько прост, насколько же и неприемлем для самооценки обывателя. Так вот, благодетель жертвует свои блага при таких условиях, когда хочет понравиться.
То есть, если человек захочет выглядеть хорошим в наших глазах, вероятно, он будет способен на так называемую щедрость по отношению к нашей персоне.
И напротив, жадными эгоистами мы считаем тех людей, которые не стараются нам понравиться. А почему они не стараются? Потому что плохие? Нам, конечно, так думать – удобней всего. А может, потому что плохие мы? Это – «палка о двух концах». Человек не старается нам понравиться, когда не видит для этого причин. Мы не святые, и обычно стремимся нравиться другим, когда чувствуем, что для нас это выгодно. То есть, желая выглядеть хорошими в чьих-то глазах, мы так или иначе рассчитываем что-то заполучить…
И вот здесь вступает в игру наше многострадальное самолюбие, на одной стороне которого таится комплекс неполноценности, а на другой – чувство собственной важности. Не зря говорят, что гордыня – отец всех пороков.
Мы чувствуем чужую жадность, когда переживаем, что нас не любят и не уважают, а только используют за наши блага. Мы жаждем искренней безусловной любви к собственной персоне, на которую по большому счету способны лишь святые и некоторые матери в отношении своих чад. Мы обманываем себя надеждой, что такая любовь возможна. Но по факту, мы живем в мире потребительских отношений, где каждый любит не безусловно, а по какой-то причине – за конкретные качества, черты и свойства.
Мы все – «продажные твари», в своих отношениях подкупающие друг друга, кто чем может. А когда нам не хватает реальных благ, мы осваиваем искусство рекламы – позиционирования иллюзорных образов и качеств. Строим из себя не весть кого, чтобы искусственным имиджем заслужить любовь и уважение. И в этом еще полбеды. Ладно бы, если мы поступали так сознательно. Но в какой-то момент мы настолько завираемся, что и сами начинаем верить, будто и вправду являемся тем самым нормальным хорошим человеком, образ которого демонстрируем всем окружающим. Именно так в разладе с собою возникают неврозы – психосоматические недуги, отравляющие нашу жизнь.
Мы становимся жадными собственниками, когда хотим держать под контролем наши отношения с другими людьми. Мы пытаемся контролировать чужие чувства, когда хотим, чтобы нас любили и уважали безусловно – то есть без причины. Иначе мы чувствуем фальшь – унизительный обман, такое гадкое переживание, словно человек нас на самом деле совсем не любит, и выкинет из своего существования, как только мы перестанем спонсировать его присутствие в нашей жизни. Но ведь как уже говорилось – мы не святые и не умеем любить за просто так!
Даже когда так называемую «жадность» проявляет чужой человек, которого мы раньше не видели, у нас может возникнуть невротичная реакция, потому что за чьей то бережливостью, мы обнаруживаем «неуважительное» отношение к нашей персоне.
Иными словами, жадность и эгоизм – это личный страх, что нас любят не просто так, а по какой-то причине. Просто подспудно мы ощущаем, когда из нас хотят сделать лопухов, и в качестве большой и чистой любви пропихнуть типичные продажные отношения. А честность нас зачастую тоже не вполне устраивает, потому что все-таки в любовь хочется верить!
Большая часть всех приятельских и дружеских связей также вертится вокруг таких вот взаимовыгодных неврозов. А если человеку от нас ничего не надо, наше уязвленное самолюбие может окрестить его сволочью. Но по факту ничего дурного в чужом равнодушии нет. Просто наша персона кому-то показалась неинтересной – может быть, человек устал, у него мало времени, или его раздражает рисунок на нашей рубашке. У всех свои предпочтения. Это – нормально. Но этот факт кажется тем унизительней, чем больше ожиданий мы накрутили вокруг жертвы наших потребностей.
Травмирующий факт для самолюбия обывателя в теле взрослого человека заключается в том, что никто никому ничего не должен. А если мы посчитали иначе, то это – наша персональная проблема.
Для личного психического здоровья лучше быть сознательным альфонсом или осознающей свое положение проституткой, нежели невротиком, который ожидает халявной «безусловной» любви от окружающих.
Мотивы жадности и эгоизма
Вот и получается, что если человек действует честно, не прикрывая свои истинные мотивы благородной ложью, тут-то он и становится «нехорошим» жадиной и «безжалостным» эгоистом, не пожелавшим церемониться с нашими неврозами.
Иногда мы считаем эгоистами людей, которые берегут свое внимание и ценят личное время. Вроде как, если человек не читает наш бесполезный спам где-нибудь «ВКонтакте», значит, он ушлый эгоист, который вместо того, чтобы проникаться нашей глубокомысленной «чушью», занимается какими-то своими совершенно бесполезными для нас делами.
Зачастую чужим эгоизмом нам нравится объяснять собственную потребность в бесплатной халяве. Ведь куда проще выманить уже готовые блага у имущих, нежели заработать их самостоятельно. Вроде как, если человек, сумел себя обеспечить, неплохо было бы ему понравиться, чтобы теперь он обеспечил и нашу персону, раз уж это у него так хорошо получается.
Дабы человек оказался нашим должником, необязательно ему нравиться. Чтобы вытянуть чужие блага, можно льстить, унижаться, апеллировать к жалости, чувству долга, благородству, превосходству, величию и другим признакам «хорошего» человека. Подойдет все, что заставит «щедрого» благодетеля доказывать, что он – не жадина и не эгоист.
Эгоистами мы считаем «нехороших» людей, которых принято осуждать и даже как-то наказывать. Я уже подробно озвучивал идею, что каждый человек в конечном итоге все делает исключительно для себя.
Каждый повинуется закону кнута и пряника. Неважно, кто перед нами – герой, злодей, офисный служащий, любящая мать – никто не может иначе. Мы все – «собачки Павлова», подчиненные двум базовым рефлексам страдания и удовольствия. Каждый из нас в этой жизни просто избегает боли и выбирает кайф – кто как умеет.
Все мы бредем за морковкой приятных ощущений. Гении, мудрецы и прочие продвинутые юзеры от типичных аутсайдеров ничем не отличаются – все та же погоня за кайфом. Разница между всеми нами только в том, что каждый имеет доступ к своим уникальным источникам счастья.
Грубые люди действуют грубо, срывая поверхностные впечатления не потому что они «плохие», а потому что иначе не могут. Именно так – грубо и поверхностно доступный на их этапе кайф дергает за рычаги их разума.
Дальновидные «мудрецы» наслаждаются жизнью утонченно с наименьшим количеством разрушительных последствий, потому что различают такие ниточки счастья, дергая за которые получают свой, недостижимый для других кайф.
Никто не может иначе. Каждый подчиняется тем импульсам, которые способен различить на периферии своего сознания. Все мы – порождения неизбежного личного опыта.
Есть такой как бы глобальный стереотип, который говорит, что правильные люди должны поступать правильно. А если ты неправильный, а жадный и эгоистичный, то обязан переживать стыд, страх и другие неприятные импульсы, которые должны побуждать исправляться, чтобы соответствовать этому глобальному стереотипу.
В итоге нашим всемогущим разумом помыкают две дополнительные пружинки: самоуважение и самобичевание. Следуя нормативам, мы себя уважаем, нарушая правила – грызем. Так глобальный закон кнута и пряника реализуется в социальном мире, побуждая нас доказывать свою нормальность.
Все наше поведение, все благородные намерения и высокие устремления подчиняются простым импульсам «приятно» и «неприятно». Но нам не хочется верить, что мы настолько примитивны… Поэтому мы выбираем думать что, наши «правильные» поступки – вовсе не от радости самоутверждения, а проявление какого-нибудь святого великодушия.
Не существует ни жадности, ни эгоизма. Есть только наше самолюбие, загнанное беспрерывной гонкой самоутверждения, вечно сканирующее реальность в поисках любви и уважения.
И нет ничего дурного в социальном бартере, где каждый делится тем, что имеет. Просто, во избежание невротичных страхов, при совершении обмена, не стоит жульничать, выдавая саморекламу за реальность. И тогда этот обмен «энергиями» вполне можно называть взаимовыручкой.
Автор: Игорь Саторин
Показать больше
При финансовой поддержке
Memes Admin
5 мс. назад