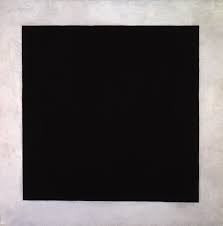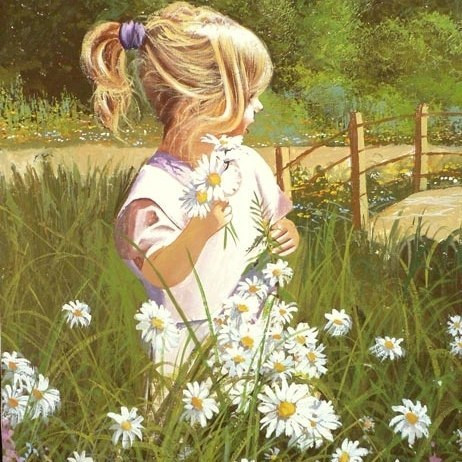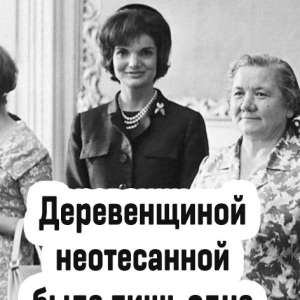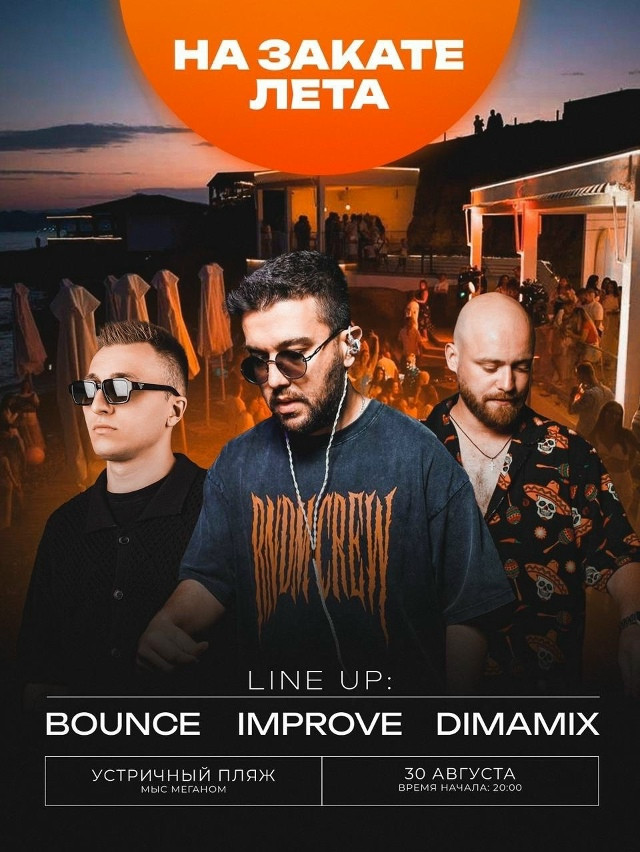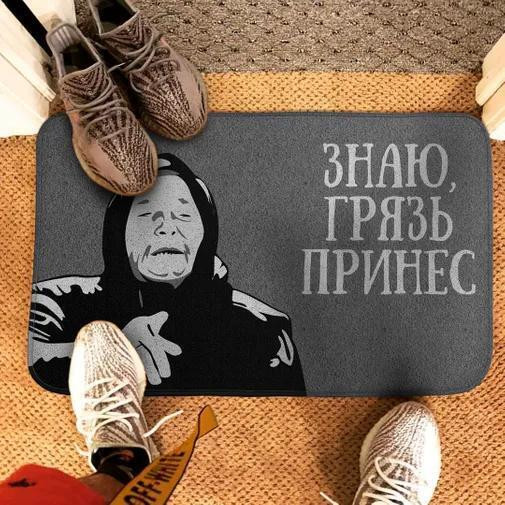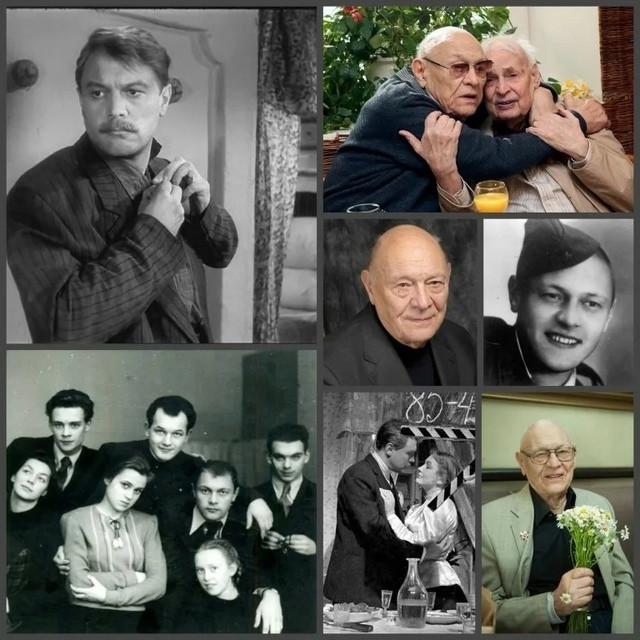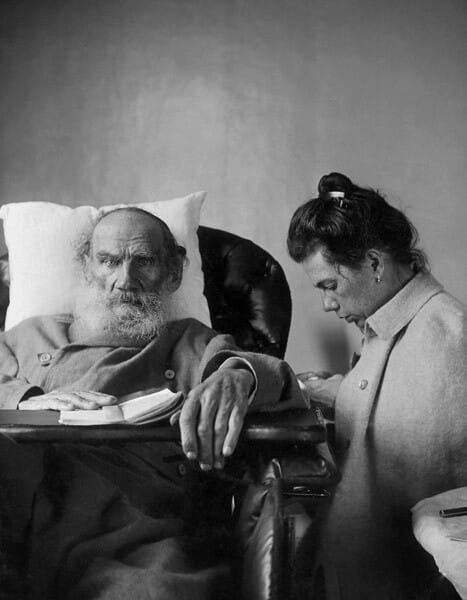2 мс. назад
2 мс. назад
Сергей Есенин и Айседора Дункан
«И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою…», – так Сергей Есенин писал о своей жене, Айседоре Дункан. Их союз продержался всего три года. Постоянные скандалы и бурные выяснения отношений, тем не менее, были плодотворны для творчества. Их разделяло очень многое: языковой барьер (он не говорил по-английски, она знала по-русски несколько слов), 18-летняя разница в возрасте и менталитете. А объединяло то, что они были равновелики по силе таланта и популярности. Она была всемирно известной американской танцовщицей, он стал всемирно известным русским поэтом.
Роман Айседоры Дункан с Есениным был таким же недолгим, как и ее роман с советской властью. Она с восторгом приняла революцию 1917 г. и ожидала от нее больших перемен. Ее саму называли революционеркой, но в иной стихии – хореографии. Айседора Дункан танцевала без пуантов и корсета, в легких хитонах, босиком. Ее называли «живым воплощением души танца», а позже признали основательницей современного танца.
Впрочем, хореографию Дункан оценивали неоднозначно: ее танцевальную лексику часто называли скудной, говорили, что она слишком стара и тяжеловесна для танца и занимается в большей степени пантомимой.
В 1921 г. она написала наркому просвещения СССР Луначарскому: «Я устала от буржуазного, коммерческого искусства. Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно мое искусство и у которых никогда не было денег, чтобы посмотреть на меня». В ответ Луначарский пригласил Дункан в Москву с предложением открыть танцевальную школу.
Когда Айседора отправилась в Россию, она ожидала чего угодно, только не того, что ей предсказала гадалка: в новой стране она выйдет замуж. Ей было 44 года, она никогда не была замужем. В тот вечер, когда 26-летний Есенин впервые увидел Айседору Дункан, она танцевала под «Интернационал» в красном хитоне, символизирующем победу революции. Они познакомились и специфически пообщались: все, что она сказала ему по-русски, – «золотая голова», «ангел» и «тщорт».
Дункан и Есенин поженились в СССР в 1922 г. Вскоре после этого они уехали за границу – танцовщица отправилась на гастроли по Америке и Европе. Но Есенина там представляли исключительно как мужа знаменитой Дункан, он много пил и не находил себе применения. Об Америке он написал: «Американцы – народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам».
Союз поэта и танцовщицы часто высмеивали, в Москве Айседору прозвали «Дунькой-коммунисткой», а в злых эпиграммах писали: «Есенина куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».
В 1923 г. они расстались. Оба вскоре после расставания трагически погибли. Есенина нашли повешенным в гостинице «Англетер», Айседора Дункан тоже погибла от удушья – длинный шарф запутался в колесе кабриолета. Имя Айседоры Дункан навсегда вошло в историю танца
ИСТОРИЯ | ЛИЧНОСТИ | ИСТОРИИ ЛЮБВИ
«И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою…», – так Сергей Есенин писал о своей жене, Айседоре Дункан. Их союз продержался всего три года. Постоянные скандалы и бурные выяснения отношений, тем не менее, были плодотворны для творчества. Их разделяло очень многое: языковой барьер (он не говорил по-английски, она знала по-русски несколько слов), 18-летняя разница в возрасте и менталитете. А объединяло то, что они были равновелики по силе таланта и популярности. Она была всемирно известной американской танцовщицей, он стал всемирно известным русским поэтом.
Роман Айседоры Дункан с Есениным был таким же недолгим, как и ее роман с советской властью. Она с восторгом приняла революцию 1917 г. и ожидала от нее больших перемен. Ее саму называли революционеркой, но в иной стихии – хореографии. Айседора Дункан танцевала без пуантов и корсета, в легких хитонах, босиком. Ее называли «живым воплощением души танца», а позже признали основательницей современного танца.
Впрочем, хореографию Дункан оценивали неоднозначно: ее танцевальную лексику часто называли скудной, говорили, что она слишком стара и тяжеловесна для танца и занимается в большей степени пантомимой.
В 1921 г. она написала наркому просвещения СССР Луначарскому: «Я устала от буржуазного, коммерческого искусства. Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно мое искусство и у которых никогда не было денег, чтобы посмотреть на меня». В ответ Луначарский пригласил Дункан в Москву с предложением открыть танцевальную школу.
Когда Айседора отправилась в Россию, она ожидала чего угодно, только не того, что ей предсказала гадалка: в новой стране она выйдет замуж. Ей было 44 года, она никогда не была замужем. В тот вечер, когда 26-летний Есенин впервые увидел Айседору Дункан, она танцевала под «Интернационал» в красном хитоне, символизирующем победу революции. Они познакомились и специфически пообщались: все, что она сказала ему по-русски, – «золотая голова», «ангел» и «тщорт».
Дункан и Есенин поженились в СССР в 1922 г. Вскоре после этого они уехали за границу – танцовщица отправилась на гастроли по Америке и Европе. Но Есенина там представляли исключительно как мужа знаменитой Дункан, он много пил и не находил себе применения. Об Америке он написал: «Американцы – народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам».
Союз поэта и танцовщицы часто высмеивали, в Москве Айседору прозвали «Дунькой-коммунисткой», а в злых эпиграммах писали: «Есенина куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».
В 1923 г. они расстались. Оба вскоре после расставания трагически погибли. Есенина нашли повешенным в гостинице «Англетер», Айседора Дункан тоже погибла от удушья – длинный шарф запутался в колесе кабриолета. Имя Айседоры Дункан навсегда вошло в историю танца
ИСТОРИЯ | ЛИЧНОСТИ | ИСТОРИИ ЛЮБВИ
Показать больше
2 мс. назад
#pzinternet #pzМосква #pzПитер #pzСанктПетербург
Доброго и успешного утра, дня, вечера.
Каждый день ценен, ведь каждый являтся частью вселенной. И всё, что сейчас происходит, тоже является частью вселенной.
Огромный мир, тысячи созвездий, млечный путь...
И можно даже матом всех ругнуть.
К 35 годам (хотя я полагаю цифры в паспорте дают лишь опыт бытия) я наконец-то более менее начала понимать какого человека мужского пола (девочки, Вы тоже классные 🫶) я хочу видеть рядом с собой. Но, об этом чуть позже...
Рассказ будет длинным и долгим, если ты располагаешь временем, то welcom. Но, прежде, чем перейти к тебе и основному блюду, начну пожалуй с себя.
Детство: сказать, что оно было ***** ничего не сказать. Последствия я разбираю еженедельно с психологом. Конечно, многие советуют психиатра и таблеточки, мол это проще, закинулся и не о чëм не думаешь. Но, я такой метод не признаю. Просто пью магний или афобазол. На мой взгляд нужно пытаться с этим разбираться, чтобы жить дальше. Вследствие чего я имею психологические (и немного физические, просто несколько шрамов) травмы. Психика не устойчива, очень ранима, эмоциональна и всё принимаю близко к сердцу. Могу плакать (это хорошо, потому, что раньше вообще не могла), обижаться, психовать, истерить. НО, если меня провоцировать и делать поступки, которые будут вызывать такую реакцию. Тебе будет необходимо думать, что ты делаешь и говоришь мне/рядом со мной.
Я не прощаю и не извиняюсь- запомни это. Если не устраивает, дальше можешь не читать. Да, Я главная. Люблю, ценю, уважаю себя. Ведь "я себя сделала сама, я никому ничего не должна". Буква Ю. Я не обязана любить твоих детей/родителей/друзей и т.д. Но, относиться спокойно и с уважением, если не нарушают мои личные границы. Я уверена в себе, своей красоте, жизни, успешности, наличию ума и во всём, что я делаю - вижу огромный смысл и потенциал. Ты для меня должен быть поддержкой, опорой, сильным плечëм, тот кто будет рядом со мной и за меня. Внимательно перечитай это предложение ещё раз. Да, у меня есть дети и им не нужен папа, ибо такой имеется и у них прекрасные отношения. Им нужен друг. Если мы вместе, дети это часть моей жизни. Выдохни, они живут отдельно от меня. И да, меня устраивает, что в данный момент я одна. Я не стремлюсь выйти замуж (спасибо, одного раза хватило), съехаться, и т.д. Хочу, чтобы было просто хорошо. Вместе проводить время, общаться, поддерживать, понимать, веселиться, быть у друг друга, быть частью друг друга. Оу, сразу спешу сообщить, что я не секс-волонтер и не *рахомеценат, так что, тех кого это интересует, Вы не по адресу. Но, чтобы было без сюрпризов 🎉, ты можешь прислать свой дикпик, а я скину тебе фоточку сочной кураги 😁
Обязательно чувство юмора, чёрное чувство юмора и наличие сарказма.
Сериалы: Пацаны, Ублюдки, Настоящий детектив (1 сезон). Любимые фильмы- Исчезнувшая, Стекло, Район номер 9 и т.п.
Конечно классика вроде теории большого взрыва. Фредди Меркьюри- икона, и если ты его считаешь п**ором, то спешу (подчеркни) тебя обрадовать , единственный пи*ор на этой планете- это ты. Я верю во вселенную и высшую силу, во всё, что угодно, только не в христианство. Так, что если ты топишь за Иисуса, то это в церковь на колени, а не ко мне. "Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
Я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю Джа, я верю Джа, я верю Джа и верить буду!"- хорошая песня. В музыке мне нравится многое, от 2bina 2rista до Чижа.
И так, продолжаем.
Оу, сейчас у многих бомбанет. И будет это дважды. Первый бум- я не буду стоять у плиты, и делать по дому всю работу, потому, что я женщина. Я- женщина и именно поэтому не должна и не обязана. Ещё раз перечитай и подумай. Да, умею и могу. Но, если я работаю (а я работаю) данные обязательства распространяются на обеих (потому, что нет такого слова- обоих). Да, жить вместе я не хочу, но о таком тоже лучше говорить заранее. Еду можно заказать в доставке. Мне лично нравится самокат и вкусвилл. Понимаю, тебя бомбит детка, но иди плакаться к маме под юбочку сыночка/корзиночка. И да, я умею готовить, и отлично это делаю. Если у меня будет желание и настроение. Поэтому бытовые инвалиды пожалуйста к мамам, жёнам, кому угодно, только не ко мне.
Второе- "детка хочет бум бум"- и в данном случае я говорю о члене мужского пола, которые считают, что если он финансово вкладывается в даму, она им должна дать, детка не трать моё время и свои деньги, хочешь волшебную ночь сходи к ночной фее.
Если у нас встреча, свидание, или иной досуг ты его организовываешь и оплачиваешь. И нет, это не чашка кофе с круассаном в парке и роза в целофане, не позорься. Такси кстати я предпочитаю от уровня бизнесс класса, это вопрос комфорта и безопасности. (Да,я езжу только на таком). Живые цветы кстати мне очень по вкусу 🫶 Чувствуешь? Да, у меня есть характер и стержень. Да, я ранимая девочка, но длина моего ножа больше, чем твой орган. Я могу быть грубой и жестокой/жëсткой. Ведь всё зависит от того, кто рядом и как относится. Если ты сейчас подумал "я её проучу", то в твоём бокале будет крысиный яд, мальчик я преподавала там, где ты учился. Жарко становится 🔥 На самом деле это просто защитная реакция, и умный мужчина сумеет прочитать между строк и понять всё, о чём я написала.
Татуировки- у меня они есть и я планирую ещё. Тело мой храм 😁 Высшее образование- да, обязательно. Для дурачков, кто говорит "ой, оно мне не надо", сразу до свидания. У меня имеется. Две специальности. Ладно, поисню. Наличие корочки даёт возможность занимать руководящие должности и развитие в карьере. Да, я хочу, чтобы у тебя были амбиции, стремления, желания к развитию и улучшению качества жизни. Исключением например может быть, если ты работаешь в IT и заработок более, чем достойный (от 200-300 и выше тыс/месяц).
Закон и порядок. Я не перехожу светофор на красный свет, жëстко (я тебя первая сдам ментам) против наркоты, ещё я не курю. И, если ты куришь (сигареты), то придëтся либо бросить, либо не курить при мне, проветривать свою одежду и упорно пользоваться зубной щёткой с пастой и освежителем ротовой полости. Не против электронки, ибо сама иногда балуюсь. Алкоголь допустим в небольших дозах. Для удовольствия за ужином к примеру, но не в качестве лечения душевных травм и чтобы в сопли быть пьяным. Я ценитель вин, могу иногда выпить качественного пива.
Порядок- я за чистоту, комфорт и удобства. Порядок дома, порядок в голове. Мне нравится, когда вещи лежат на своих местах. Когда можно ходить босиком, потому, что пол чистый. Не люблю ковры, это пылесборники. Но, я не перфекционист, если мы оба очень заняты (работой, хобби, делами) беспорядок допустим в пределах разумного.
Дети, спасибо у меня есть. Более я не планирую. Если ты будешь меня любить без ума, и захочешь, чтобы у нас был ребёнок, вот сейчас внимательно читай- это будет твоё решение и ответственность. Значит ты решаешь все запросы по этому вопросу: сурогатная мать, няня, и прочее. Мне это не нужно.
Твой вес и возраст для меня не принципиальны, можно и в 40 быть дном. А можно и в 25 быть на коне. Все условности в голове.
А вот рост пожалуйста от 180 см, потому что я сама 164. Карлики предпочитают Эльфов. Будет вообще отлично, есть у тебя есть борода- я скажу тебе да 😏
Я в компьютерные игры не играю, не виду стримы и прочее, от этого далека, но если это твой способ отдыха и интересы, то ок, главное, чтобы всё было в меру. Задроты/дрочеры мимо пожалуйста. Гладьте свою мышку дальше.
Я увлекаюсь танцами, да, беру свои красивые веера (вейлы) из шёлка и хожу просто танцую в парк (для себя). Пишу стихи и рассказы. Нравятся аквапарки, бассейны, ходьба, разминка, зарядка. Но, это не значит, что я на спорте. При росте 164 мой вес 78 кг., иногда меньше. Поэтому, если ты фанат досочек и худобы, тоже мимо. Я полна жизнью во всех её смыслах, но в меру 😎
Я кстати беру листовки в метро и кидаю мелочь музыкантам (если мне нравится исполнение). Ещё я могу ехать в метро в наушниках и петь или пританцовывать, мне абсолютно всё равно, что обо мне подумают. Это важный аспект.
Обожаю готовить, новые рецепты, в ресторанах предпочитаю итальянскую кухню.
Я интроверт и черпаю ресурсы, когда отдыхаю одна в тишине и покое. А могу и сутки напролёт быть с тобой на связи. И важно, чтобы я в твоей жизни была главным аспектом. А вот эмоциональные качели будут бонусом.
Главное, чтобы человек был хорошим.
Любимые писатели: Сергей Довлатов и Вирджиния Вулф.
Ещё не люблю людей и большое скопление массы, но над этим работаю. На концерт любимой группы, например "Пикник" с удовольствием схожу (была раз 5 точно, даже автограф и фото с Э. Шклярским есть), а вот на день города и прочие скопления нет.
Если это важно, у меня карие глаза (бездна) и длинные волосы ниже плеч. Не крашу, нравится свой цвет и отращиваю длину. Обожаю уход за собой, в том числе маникюр, педикюр и прочее. И да, это твои будущие расходы.
Иногда мне нравится ходить в бары (раз в месяц) или даже потанцевать в клуб или караоке (периодичность раз в год).
Кто по сути нас осудит?
Кто ставит границы? У нас под пуговицами такое творится. Мои слабости сильнее Вас.
И да, мне можно всё.
Ещё важный момент, мне всё равно на цвет кожи людей, их вероисповедание. В моих друзьях есть все. Меня уже ни чем не удивить. Я абсолютно толерантна. Но, если это касается исключительно твоей личности. Если ты обижаешь животных, я тебя зарежу, как овцу.
Не обесценивать, не выражать своё субъективное мнение и осуждение на лево/право- ценные качества.
Если в душе откликается и ты готов, то... Голосуй... Выборы, выборы... Кандидаты... Очень интересные люди 😎
Доброго и успешного утра, дня, вечера.
Каждый день ценен, ведь каждый являтся частью вселенной. И всё, что сейчас происходит, тоже является частью вселенной.
Огромный мир, тысячи созвездий, млечный путь...
И можно даже матом всех ругнуть.
К 35 годам (хотя я полагаю цифры в паспорте дают лишь опыт бытия) я наконец-то более менее начала понимать какого человека мужского пола (девочки, Вы тоже классные 🫶) я хочу видеть рядом с собой. Но, об этом чуть позже...
Рассказ будет длинным и долгим, если ты располагаешь временем, то welcom. Но, прежде, чем перейти к тебе и основному блюду, начну пожалуй с себя.
Детство: сказать, что оно было ***** ничего не сказать. Последствия я разбираю еженедельно с психологом. Конечно, многие советуют психиатра и таблеточки, мол это проще, закинулся и не о чëм не думаешь. Но, я такой метод не признаю. Просто пью магний или афобазол. На мой взгляд нужно пытаться с этим разбираться, чтобы жить дальше. Вследствие чего я имею психологические (и немного физические, просто несколько шрамов) травмы. Психика не устойчива, очень ранима, эмоциональна и всё принимаю близко к сердцу. Могу плакать (это хорошо, потому, что раньше вообще не могла), обижаться, психовать, истерить. НО, если меня провоцировать и делать поступки, которые будут вызывать такую реакцию. Тебе будет необходимо думать, что ты делаешь и говоришь мне/рядом со мной.
Я не прощаю и не извиняюсь- запомни это. Если не устраивает, дальше можешь не читать. Да, Я главная. Люблю, ценю, уважаю себя. Ведь "я себя сделала сама, я никому ничего не должна". Буква Ю. Я не обязана любить твоих детей/родителей/друзей и т.д. Но, относиться спокойно и с уважением, если не нарушают мои личные границы. Я уверена в себе, своей красоте, жизни, успешности, наличию ума и во всём, что я делаю - вижу огромный смысл и потенциал. Ты для меня должен быть поддержкой, опорой, сильным плечëм, тот кто будет рядом со мной и за меня. Внимательно перечитай это предложение ещё раз. Да, у меня есть дети и им не нужен папа, ибо такой имеется и у них прекрасные отношения. Им нужен друг. Если мы вместе, дети это часть моей жизни. Выдохни, они живут отдельно от меня. И да, меня устраивает, что в данный момент я одна. Я не стремлюсь выйти замуж (спасибо, одного раза хватило), съехаться, и т.д. Хочу, чтобы было просто хорошо. Вместе проводить время, общаться, поддерживать, понимать, веселиться, быть у друг друга, быть частью друг друга. Оу, сразу спешу сообщить, что я не секс-волонтер и не *рахомеценат, так что, тех кого это интересует, Вы не по адресу. Но, чтобы было без сюрпризов 🎉, ты можешь прислать свой дикпик, а я скину тебе фоточку сочной кураги 😁
Обязательно чувство юмора, чёрное чувство юмора и наличие сарказма.
Сериалы: Пацаны, Ублюдки, Настоящий детектив (1 сезон). Любимые фильмы- Исчезнувшая, Стекло, Район номер 9 и т.п.
Конечно классика вроде теории большого взрыва. Фредди Меркьюри- икона, и если ты его считаешь п**ором, то спешу (подчеркни) тебя обрадовать , единственный пи*ор на этой планете- это ты. Я верю во вселенную и высшую силу, во всё, что угодно, только не в христианство. Так, что если ты топишь за Иисуса, то это в церковь на колени, а не ко мне. "Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
Я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю Джа, я верю Джа, я верю Джа и верить буду!"- хорошая песня. В музыке мне нравится многое, от 2bina 2rista до Чижа.
И так, продолжаем.
Оу, сейчас у многих бомбанет. И будет это дважды. Первый бум- я не буду стоять у плиты, и делать по дому всю работу, потому, что я женщина. Я- женщина и именно поэтому не должна и не обязана. Ещё раз перечитай и подумай. Да, умею и могу. Но, если я работаю (а я работаю) данные обязательства распространяются на обеих (потому, что нет такого слова- обоих). Да, жить вместе я не хочу, но о таком тоже лучше говорить заранее. Еду можно заказать в доставке. Мне лично нравится самокат и вкусвилл. Понимаю, тебя бомбит детка, но иди плакаться к маме под юбочку сыночка/корзиночка. И да, я умею готовить, и отлично это делаю. Если у меня будет желание и настроение. Поэтому бытовые инвалиды пожалуйста к мамам, жёнам, кому угодно, только не ко мне.
Второе- "детка хочет бум бум"- и в данном случае я говорю о члене мужского пола, которые считают, что если он финансово вкладывается в даму, она им должна дать, детка не трать моё время и свои деньги, хочешь волшебную ночь сходи к ночной фее.
Если у нас встреча, свидание, или иной досуг ты его организовываешь и оплачиваешь. И нет, это не чашка кофе с круассаном в парке и роза в целофане, не позорься. Такси кстати я предпочитаю от уровня бизнесс класса, это вопрос комфорта и безопасности. (Да,я езжу только на таком). Живые цветы кстати мне очень по вкусу 🫶 Чувствуешь? Да, у меня есть характер и стержень. Да, я ранимая девочка, но длина моего ножа больше, чем твой орган. Я могу быть грубой и жестокой/жëсткой. Ведь всё зависит от того, кто рядом и как относится. Если ты сейчас подумал "я её проучу", то в твоём бокале будет крысиный яд, мальчик я преподавала там, где ты учился. Жарко становится 🔥 На самом деле это просто защитная реакция, и умный мужчина сумеет прочитать между строк и понять всё, о чём я написала.
Татуировки- у меня они есть и я планирую ещё. Тело мой храм 😁 Высшее образование- да, обязательно. Для дурачков, кто говорит "ой, оно мне не надо", сразу до свидания. У меня имеется. Две специальности. Ладно, поисню. Наличие корочки даёт возможность занимать руководящие должности и развитие в карьере. Да, я хочу, чтобы у тебя были амбиции, стремления, желания к развитию и улучшению качества жизни. Исключением например может быть, если ты работаешь в IT и заработок более, чем достойный (от 200-300 и выше тыс/месяц).
Закон и порядок. Я не перехожу светофор на красный свет, жëстко (я тебя первая сдам ментам) против наркоты, ещё я не курю. И, если ты куришь (сигареты), то придëтся либо бросить, либо не курить при мне, проветривать свою одежду и упорно пользоваться зубной щёткой с пастой и освежителем ротовой полости. Не против электронки, ибо сама иногда балуюсь. Алкоголь допустим в небольших дозах. Для удовольствия за ужином к примеру, но не в качестве лечения душевных травм и чтобы в сопли быть пьяным. Я ценитель вин, могу иногда выпить качественного пива.
Порядок- я за чистоту, комфорт и удобства. Порядок дома, порядок в голове. Мне нравится, когда вещи лежат на своих местах. Когда можно ходить босиком, потому, что пол чистый. Не люблю ковры, это пылесборники. Но, я не перфекционист, если мы оба очень заняты (работой, хобби, делами) беспорядок допустим в пределах разумного.
Дети, спасибо у меня есть. Более я не планирую. Если ты будешь меня любить без ума, и захочешь, чтобы у нас был ребёнок, вот сейчас внимательно читай- это будет твоё решение и ответственность. Значит ты решаешь все запросы по этому вопросу: сурогатная мать, няня, и прочее. Мне это не нужно.
Твой вес и возраст для меня не принципиальны, можно и в 40 быть дном. А можно и в 25 быть на коне. Все условности в голове.
А вот рост пожалуйста от 180 см, потому что я сама 164. Карлики предпочитают Эльфов. Будет вообще отлично, есть у тебя есть борода- я скажу тебе да 😏
Я в компьютерные игры не играю, не виду стримы и прочее, от этого далека, но если это твой способ отдыха и интересы, то ок, главное, чтобы всё было в меру. Задроты/дрочеры мимо пожалуйста. Гладьте свою мышку дальше.
Я увлекаюсь танцами, да, беру свои красивые веера (вейлы) из шёлка и хожу просто танцую в парк (для себя). Пишу стихи и рассказы. Нравятся аквапарки, бассейны, ходьба, разминка, зарядка. Но, это не значит, что я на спорте. При росте 164 мой вес 78 кг., иногда меньше. Поэтому, если ты фанат досочек и худобы, тоже мимо. Я полна жизнью во всех её смыслах, но в меру 😎
Я кстати беру листовки в метро и кидаю мелочь музыкантам (если мне нравится исполнение). Ещё я могу ехать в метро в наушниках и петь или пританцовывать, мне абсолютно всё равно, что обо мне подумают. Это важный аспект.
Обожаю готовить, новые рецепты, в ресторанах предпочитаю итальянскую кухню.
Я интроверт и черпаю ресурсы, когда отдыхаю одна в тишине и покое. А могу и сутки напролёт быть с тобой на связи. И важно, чтобы я в твоей жизни была главным аспектом. А вот эмоциональные качели будут бонусом.
Главное, чтобы человек был хорошим.
Любимые писатели: Сергей Довлатов и Вирджиния Вулф.
Ещё не люблю людей и большое скопление массы, но над этим работаю. На концерт любимой группы, например "Пикник" с удовольствием схожу (была раз 5 точно, даже автограф и фото с Э. Шклярским есть), а вот на день города и прочие скопления нет.
Если это важно, у меня карие глаза (бездна) и длинные волосы ниже плеч. Не крашу, нравится свой цвет и отращиваю длину. Обожаю уход за собой, в том числе маникюр, педикюр и прочее. И да, это твои будущие расходы.
Иногда мне нравится ходить в бары (раз в месяц) или даже потанцевать в клуб или караоке (периодичность раз в год).
Кто по сути нас осудит?
Кто ставит границы? У нас под пуговицами такое творится. Мои слабости сильнее Вас.
И да, мне можно всё.
Ещё важный момент, мне всё равно на цвет кожи людей, их вероисповедание. В моих друзьях есть все. Меня уже ни чем не удивить. Я абсолютно толерантна. Но, если это касается исключительно твоей личности. Если ты обижаешь животных, я тебя зарежу, как овцу.
Не обесценивать, не выражать своё субъективное мнение и осуждение на лево/право- ценные качества.
Если в душе откликается и ты готов, то... Голосуй... Выборы, выборы... Кандидаты... Очень интересные люди 😎
Показать больше
2 мс. назад
123 способа воскресить в себе девочку
Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.
Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.
Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.
Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!
1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.
2. Искупаться в одежде.
3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.
4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.
5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).
6. Позавтракать мороженым.
7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.
8. Показать мужу язык во время ссоры.
9. Прыгать на кровати.
10. Кататься с горок на детских площадках.
11. Купить себе самую красивую куклу.
12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.
13. Ходить босиком по траве в парке.
14. Прыгать от радости.
15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.
16. Украшать волосы цветами.
17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.
18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».
19. Стрелять из водяных пистолетов.
20. Корчить смешные рожицы зеркалу.
21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.
22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.
23. Играть в снежки.
24. Качаться на качелях.
25. Валяться в снегу.
26. Устраивать бои подушками.
27. Рисовать на запотевшем окне.
28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.
29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.
30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.
31. Попрыгать на батуте.
32. От обиды побить тарелки.
33. Гадать на святки и не только.
34. Носить дома юбочку, как у балерины.
35. Кататься на санках с горок.
36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».
37. Зарываться в песок целиком.
38. Делать яркий педикюр.
39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.
40.Лепить из пластилина поделки.
41. Запускать воздушных змеев.
42. Делать блинчикам смешные рожицы.
43.Дурачиться – с подружками или без никого.
44. Плести венки и носить их на голове.
45.Иногда спать днем.
46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.
47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.
48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.
49. Украшать к празднику весь дом.
50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).
51.Запускать кораблики по рекам.
52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.
53. Ловить снежинки ртом.
54. Кататься на троллейбусе кругами.
55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.
56. Чаще улыбаться и смеяться.
57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.
58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.
59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.
60.Танцевать с пылесосом или шваброй.
61. Совершать безумные поступки.
62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.
63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.
64. Купаться во время дождя.
65. Делать вареники с сюрпризами.
66. Сделать выставку своих картин или фотографий.
67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.
68. Иногда играть в принцессу.
69. Меняться нарядами с подругами.
70. Носить забавные украшения, бижутерию.
71. Кататься на велосипеде.
72. Надувать мыльные пузыри.
73. Есть жареную картошку со сковородки.
74. Принимать ванну с огромным количеством пены.
75. Кидаться песком на пляже.
76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.
77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.
78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.
79. Носить шляпы с огромными полями.
80. Иногда на ужин заказывать пиццу.
81. Покупать себе воздушные шарики.
82. Делать смешные стенгазеты.
83. Писать мужу любовные записки.
84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.
85. Плакать от неудачи или обиды.
86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.
87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.
88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.
89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.
90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.
91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам
92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.
93. Строить замки из песка.
94. Собирать букеты полевых цветов и трав.
95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.
96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).
97. Читать иногда любовные романы.
98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.
99. Намазаться целебной грязью.
100. Украшать дом свечами по вечерам.
101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.
102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.
103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).
104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.
105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.
106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.
107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет
108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).
109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.
110. Чаще обнимать всех вокруг.
111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»
112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.
113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.
114. Надувать пузыри из жвачки.
115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.
116. Делать себе локоны, как у принцессы.
117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.
118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.
119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином
120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.
121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).
122.Кататься на роликах.
123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».
Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?
Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!
И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)
Пойду-ка покачаюсь на качелях...
Ольга Валяева
Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.
Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.
Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.
Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!
1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.
2. Искупаться в одежде.
3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.
4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.
5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).
6. Позавтракать мороженым.
7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.
8. Показать мужу язык во время ссоры.
9. Прыгать на кровати.
10. Кататься с горок на детских площадках.
11. Купить себе самую красивую куклу.
12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.
13. Ходить босиком по траве в парке.
14. Прыгать от радости.
15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.
16. Украшать волосы цветами.
17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.
18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».
19. Стрелять из водяных пистолетов.
20. Корчить смешные рожицы зеркалу.
21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.
22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.
23. Играть в снежки.
24. Качаться на качелях.
25. Валяться в снегу.
26. Устраивать бои подушками.
27. Рисовать на запотевшем окне.
28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.
29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.
30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.
31. Попрыгать на батуте.
32. От обиды побить тарелки.
33. Гадать на святки и не только.
34. Носить дома юбочку, как у балерины.
35. Кататься на санках с горок.
36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».
37. Зарываться в песок целиком.
38. Делать яркий педикюр.
39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.
40.Лепить из пластилина поделки.
41. Запускать воздушных змеев.
42. Делать блинчикам смешные рожицы.
43.Дурачиться – с подружками или без никого.
44. Плести венки и носить их на голове.
45.Иногда спать днем.
46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.
47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.
48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.
49. Украшать к празднику весь дом.
50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).
51.Запускать кораблики по рекам.
52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.
53. Ловить снежинки ртом.
54. Кататься на троллейбусе кругами.
55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.
56. Чаще улыбаться и смеяться.
57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.
58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.
59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.
60.Танцевать с пылесосом или шваброй.
61. Совершать безумные поступки.
62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.
63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.
64. Купаться во время дождя.
65. Делать вареники с сюрпризами.
66. Сделать выставку своих картин или фотографий.
67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.
68. Иногда играть в принцессу.
69. Меняться нарядами с подругами.
70. Носить забавные украшения, бижутерию.
71. Кататься на велосипеде.
72. Надувать мыльные пузыри.
73. Есть жареную картошку со сковородки.
74. Принимать ванну с огромным количеством пены.
75. Кидаться песком на пляже.
76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.
77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.
78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.
79. Носить шляпы с огромными полями.
80. Иногда на ужин заказывать пиццу.
81. Покупать себе воздушные шарики.
82. Делать смешные стенгазеты.
83. Писать мужу любовные записки.
84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.
85. Плакать от неудачи или обиды.
86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.
87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.
88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.
89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.
90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.
91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам
92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.
93. Строить замки из песка.
94. Собирать букеты полевых цветов и трав.
95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.
96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).
97. Читать иногда любовные романы.
98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.
99. Намазаться целебной грязью.
100. Украшать дом свечами по вечерам.
101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.
102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.
103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).
104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.
105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.
106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.
107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет
108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).
109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.
110. Чаще обнимать всех вокруг.
111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»
112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.
113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.
114. Надувать пузыри из жвачки.
115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.
116. Делать себе локоны, как у принцессы.
117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.
118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.
119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином
120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.
121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).
122.Кататься на роликах.
123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».
Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?
Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!
И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)
Пойду-ка покачаюсь на качелях...
Ольга Валяева
Показать больше
2 мс. назад
2 мс. назад
На фотографии обычная деревенская баба, в простенькой, нелепой одежонке. Это Нина Кухарчук (Хрущева), жена Никиты Сергеевича. Слева - элегантная Жаклин Кеннеди.
Нина Петровна, в отличие от своего мужа, была прекрасно образована: до 12 лет училась в своей родной холмской школе, потом уехала в Люблин, где продолжала образование. После этого было Мариинское женское училище. В 1920-х получила образование в Коммунистическом университете им. Я.Свердлова.
Ее трудовая карьера - преподаватель политэкономии в разных партийных учебных заведениях.
Во время визита Хрущева в США, Нина Петровна, "стояла в сторонке вдвоем с Рокфеллером, и они о чем-то горячо спорили".
Потом Рокфеллер вспоминал, что жена советского генсека пыталась его убедить в превосходстве социалистической модели экономики над капиталистической. Разговаривали Хрущева и Рокфеллер на чистейшем английском языке, который она прекрасно знала - начала учить его в 1938 году. А до этого выучила и свободно владела польским, украинским, французским.
А что по Жаклинке? Да вот, пожалуйста.
Жаклин на самом деле деревенщиной была неотёсанной ,с интеллектом курицы и курила как паровоз, по 2--3 пачки Мальборо в день + бутылку розового шампанского. Поэтому у неё были руки 70-летней старухи, с жёлто-коричневыми пятнами от никотина и обгрызенными ногтями, вот почему она на всех публичных фото в длинных перчатках. Причём точно также курила и глушила шампанское во время беременности из-за чего и потеряла ребёнка. Были у этой "иконы стиля" и чисто физические недостатки, одна нога была короче другой на 2.5 см и она всегда ходила на разных каблуках, а босиком хромала естественно.
Вот и думайте, что называется! СОГЛАСИТЕСЬ!🤔🤔🤔
Нина Петровна, в отличие от своего мужа, была прекрасно образована: до 12 лет училась в своей родной холмской школе, потом уехала в Люблин, где продолжала образование. После этого было Мариинское женское училище. В 1920-х получила образование в Коммунистическом университете им. Я.Свердлова.
Ее трудовая карьера - преподаватель политэкономии в разных партийных учебных заведениях.
Во время визита Хрущева в США, Нина Петровна, "стояла в сторонке вдвоем с Рокфеллером, и они о чем-то горячо спорили".
Потом Рокфеллер вспоминал, что жена советского генсека пыталась его убедить в превосходстве социалистической модели экономики над капиталистической. Разговаривали Хрущева и Рокфеллер на чистейшем английском языке, который она прекрасно знала - начала учить его в 1938 году. А до этого выучила и свободно владела польским, украинским, французским.
А что по Жаклинке? Да вот, пожалуйста.
Жаклин на самом деле деревенщиной была неотёсанной ,с интеллектом курицы и курила как паровоз, по 2--3 пачки Мальборо в день + бутылку розового шампанского. Поэтому у неё были руки 70-летней старухи, с жёлто-коричневыми пятнами от никотина и обгрызенными ногтями, вот почему она на всех публичных фото в длинных перчатках. Причём точно также курила и глушила шампанское во время беременности из-за чего и потеряла ребёнка. Были у этой "иконы стиля" и чисто физические недостатки, одна нога была короче другой на 2.5 см и она всегда ходила на разных каблуках, а босиком хромала естественно.
Вот и думайте, что называется! СОГЛАСИТЕСЬ!🤔🤔🤔
Показать больше
2 мс. назад
Я родилась на станции Малиновое Озеро, что в Алтайском крае. Работала сновальщицей на суконной фабрике, директором Дома культуры. Выпускница московского Театрального училища имени Щукина, с 1989 года актриса БДТ в Санкт-Петербурге.
В детстве мы росли как трава в поле! Гуляли на ветру, на солнце и в любви. Все лето бегали босиком. Семья наша была рабоче-крестьянская, родители нас любили абсолютной любовью. При этом труд мы знали с малочки. Все, чему научилась в детстве, я и сейчас умею и помню. Руки не забывают.
Если вдуматься, я росла в послевоенную пору. Родилась через шесть лет после окончания войны. Время было трудное: голодное, босоногое. Но если на детство смотреть как на полстакана воды, то у меня он был наполовину полным, а не пустым. Полным!
Родители были молодые, нас четверо детей, дружно жили, бабушка с дедушкой рядом. В доме всегда пахло пирогами. Я просыпалась, а солнце уже светило. Зажмурившись от счастья, вылезала в окно и, раздвинув вьюны, бежала самая довольная. Знаете, глаза прикрою, а эта картинка стоит у меня перед глазами, не проходит. Время ее пощадило, не стерло. Я была мечтательницей и фантазеркой и не любила ватаги. Могла на облака часами смотреть и фантазировать…Мечтала ли я стать артисткой? Да что вы. Нет, конечно. К нам вагон-клуб приходил один раз в месяц, и то нас, детей, туда добром не пускали. Это потом, когда подросли, стали разрешать кино смотреть.
Робкая мысль о том, а не попробовать ли мне в артистки, пришла ко мне в старших классах. И то приходилось скрывать, одноклассники бы обсмеяли. Там, где я росла, престижной профессией считались врач, учитель. А то артистка! Этого слова в той жизни и не существовало. Театра в глаза не видели. Да что там театра, музея вблизи не было…
Маму я всегда помню только в трудах, только в работе. Она кроткая у меня была. Осталась вдовой в сорок лет, папка умер в сорок восемь. Фронтовик был, у него внутри "гулял" крошечный осколок. Который и спровоцировал кровоизлияние в мозг. Война его добила через двадцать лет после победы. После его смерти мама сразу поседела. Ушла вся в работу и в нас, в детей. А работа была тяжелая - в лесу живицу из сосны добывали.
Я часто летние каникулы с мамой в лесу проводила, помогала ей. Помню, старшеклассницей была, как-то уморились мы с ней, сидим, отдыхаем, я ей говорю: "Мама, я хочу тебе монологи почитать..." Читала ей что-то из ролей Нонны Мордюковой и монолог Людмилы Чурсиной из фильма "Виринея".
Спрашиваю ее: "Мам, а из меня получилась бы артистка?" - "Конечно, доча, обязательно!" - в лесу говорила мне моя мамочка. Она мне такую уверенность, такие крылья дала. Словами не передать!
Мама застала меня артисткой. Она перекидывала моих героинь на меня, могла спросить: "Доча, что же он тебя на сцене так стукнул-то?!"
"Мам, это все специально так сделано", - отвечала я ей. А по глазам видела, что она все равно за меня переживет. Я для нее была доча, а не артистка.
И в кино она за меня переживала страшно, картину "Холодное лето пятьдесят третьего..." смотрела и рыдала.
С мамой ушло очень многое! Жаловаться, плакаться некому. И посоветоваться не с кем. Никто тебя так не пожалеет и не поймет, как мама. Никто и никогда!
Вообще я счастливая, что на земле выросла. Один пример. Захожу в дом на даче, а там у меня печка. Беру и растопляю ее запросто. Меня никто этому не учил. Я все помню интуитивно, все движения и навыки. Какую заслонку открыть, а какую закрыть. Это все часть меня. Первые шаги мои по земле были, а не по асфальту. А это большая разница.
Какая я мать? Ну не сумасшедшая - это точно. Всегда понимала, что придет время и сынок мой улетит, нельзя его привязывать к себе.
90-е годы были страшные, сынок учился, а я зарабатывала копейку, моталась по всей России со спектаклями и концертами. Чего только не было! И обманывали, и обворовывали. Вспоминать не хочется…Сейчас сын мне подсказывает часто. Многое понимает и порой дает матери правильные советы.
Что от жизни хочу? За все, что есть, слава Богу. Все, что хотела, Господь дал с лихвой. Надо еще отрабатывать. Ничего не прошу, все, что нужно в профессии, - есть. Только дай Господь.
Знаете, когда с подружками звоним другу другу, бывает, и о горестях поговорим. Но в конце разговора всегда скажем, что мы всем довольны. Всем! Это мое золотое правило. Но это понимание пришло с годами, когда шишек набила и когда в багаже уже много что есть.
Возраст? Не задумываюсь об этом серьезно. Просто надо иногда в паспорт поглядывать и понимать, что по перилам лестницы уже не прокатишься, как раньше.
А в остальном жизнь - как речка. С разным течением и перекатами, но течет. Надо с благодатью принимать эту речку - жизнь. Она течет, и ты по ней плыви.
Честно скажу, природе своей деревенской очень благодарна. Она мне многое дала. Надо только поливать свои корни и ни в коем случае не отрываться от них. Без корней мы никто.
Нина Усатова
В детстве мы росли как трава в поле! Гуляли на ветру, на солнце и в любви. Все лето бегали босиком. Семья наша была рабоче-крестьянская, родители нас любили абсолютной любовью. При этом труд мы знали с малочки. Все, чему научилась в детстве, я и сейчас умею и помню. Руки не забывают.
Если вдуматься, я росла в послевоенную пору. Родилась через шесть лет после окончания войны. Время было трудное: голодное, босоногое. Но если на детство смотреть как на полстакана воды, то у меня он был наполовину полным, а не пустым. Полным!
Родители были молодые, нас четверо детей, дружно жили, бабушка с дедушкой рядом. В доме всегда пахло пирогами. Я просыпалась, а солнце уже светило. Зажмурившись от счастья, вылезала в окно и, раздвинув вьюны, бежала самая довольная. Знаете, глаза прикрою, а эта картинка стоит у меня перед глазами, не проходит. Время ее пощадило, не стерло. Я была мечтательницей и фантазеркой и не любила ватаги. Могла на облака часами смотреть и фантазировать…Мечтала ли я стать артисткой? Да что вы. Нет, конечно. К нам вагон-клуб приходил один раз в месяц, и то нас, детей, туда добром не пускали. Это потом, когда подросли, стали разрешать кино смотреть.
Робкая мысль о том, а не попробовать ли мне в артистки, пришла ко мне в старших классах. И то приходилось скрывать, одноклассники бы обсмеяли. Там, где я росла, престижной профессией считались врач, учитель. А то артистка! Этого слова в той жизни и не существовало. Театра в глаза не видели. Да что там театра, музея вблизи не было…
Маму я всегда помню только в трудах, только в работе. Она кроткая у меня была. Осталась вдовой в сорок лет, папка умер в сорок восемь. Фронтовик был, у него внутри "гулял" крошечный осколок. Который и спровоцировал кровоизлияние в мозг. Война его добила через двадцать лет после победы. После его смерти мама сразу поседела. Ушла вся в работу и в нас, в детей. А работа была тяжелая - в лесу живицу из сосны добывали.
Я часто летние каникулы с мамой в лесу проводила, помогала ей. Помню, старшеклассницей была, как-то уморились мы с ней, сидим, отдыхаем, я ей говорю: "Мама, я хочу тебе монологи почитать..." Читала ей что-то из ролей Нонны Мордюковой и монолог Людмилы Чурсиной из фильма "Виринея".
Спрашиваю ее: "Мам, а из меня получилась бы артистка?" - "Конечно, доча, обязательно!" - в лесу говорила мне моя мамочка. Она мне такую уверенность, такие крылья дала. Словами не передать!
Мама застала меня артисткой. Она перекидывала моих героинь на меня, могла спросить: "Доча, что же он тебя на сцене так стукнул-то?!"
"Мам, это все специально так сделано", - отвечала я ей. А по глазам видела, что она все равно за меня переживет. Я для нее была доча, а не артистка.
И в кино она за меня переживала страшно, картину "Холодное лето пятьдесят третьего..." смотрела и рыдала.
С мамой ушло очень многое! Жаловаться, плакаться некому. И посоветоваться не с кем. Никто тебя так не пожалеет и не поймет, как мама. Никто и никогда!
Вообще я счастливая, что на земле выросла. Один пример. Захожу в дом на даче, а там у меня печка. Беру и растопляю ее запросто. Меня никто этому не учил. Я все помню интуитивно, все движения и навыки. Какую заслонку открыть, а какую закрыть. Это все часть меня. Первые шаги мои по земле были, а не по асфальту. А это большая разница.
Какая я мать? Ну не сумасшедшая - это точно. Всегда понимала, что придет время и сынок мой улетит, нельзя его привязывать к себе.
90-е годы были страшные, сынок учился, а я зарабатывала копейку, моталась по всей России со спектаклями и концертами. Чего только не было! И обманывали, и обворовывали. Вспоминать не хочется…Сейчас сын мне подсказывает часто. Многое понимает и порой дает матери правильные советы.
Что от жизни хочу? За все, что есть, слава Богу. Все, что хотела, Господь дал с лихвой. Надо еще отрабатывать. Ничего не прошу, все, что нужно в профессии, - есть. Только дай Господь.
Знаете, когда с подружками звоним другу другу, бывает, и о горестях поговорим. Но в конце разговора всегда скажем, что мы всем довольны. Всем! Это мое золотое правило. Но это понимание пришло с годами, когда шишек набила и когда в багаже уже много что есть.
Возраст? Не задумываюсь об этом серьезно. Просто надо иногда в паспорт поглядывать и понимать, что по перилам лестницы уже не прокатишься, как раньше.
А в остальном жизнь - как речка. С разным течением и перекатами, но течет. Надо с благодатью принимать эту речку - жизнь. Она течет, и ты по ней плыви.
Честно скажу, природе своей деревенской очень благодарна. Она мне многое дала. Надо только поливать свои корни и ни в коем случае не отрываться от них. Без корней мы никто.
Нина Усатова
Показать больше
2 мс. назад
На Цветном бульваре открыта здоровая тропа — стометровая дорожка из округлой гальки, сыпучего песка и дерева, по которой можно пройти босиком. По периметру тропы установлены перголы с разноцветными крышами, создающими мозаичные тени. Центром маршрута стал любимец гостей — четырехметровый надувной слон.
Фото: muza11
Фото: muza11
Показать больше
2 мс. назад
🌅 На закате лета
30 августа | 20:00 | Устричный пляж (https://vk.com/oysterbeach...
Лето было ярким, жарким, шумным — и мы проведём его так, как оно того заслуживает: на берегу моря, под закатное небо и ритмы музыки.
Вечеринка «На закате лета» — это три диджея, которые создадут саундтрек уходящего сезона, море огней, танцы босиком по белоснежной гальке и ощущение бесконечной свободы.
💃🏼 Наши предложения для вашего удобства:
- Беседка для большой компании (до 20 человек) с депозитом 40 000 ₽ , где Вас и Ваших друзей будет ждать лучший вид на танцпол, отдельная ВИП-зона, личный официант и 2 бутылки полусладкого розового вина коллаборации завода «Бельбек» и Устричного пляжа в подарок!
- Серебряный браслет: просто подними руку и у тебя примут заказ вне очереди, все для того, чтобы потратить время на танцы и веселье! Стоимость браслета 3500 ₽ , количество ограничено.
✨ Вход свободный
🚫 Со своими напитками и едой - нельзя
☀️ Бронь столов и все вопросы по телефону +7 (978) 144-95-77
Это будет не просто вечеринка. Это — последняя страница лета, и она станет самой красивой.
30 августа | 20:00 | Устричный пляж (https://vk.com/oysterbeach...
Лето было ярким, жарким, шумным — и мы проведём его так, как оно того заслуживает: на берегу моря, под закатное небо и ритмы музыки.
Вечеринка «На закате лета» — это три диджея, которые создадут саундтрек уходящего сезона, море огней, танцы босиком по белоснежной гальке и ощущение бесконечной свободы.
💃🏼 Наши предложения для вашего удобства:
- Беседка для большой компании (до 20 человек) с депозитом 40 000 ₽ , где Вас и Ваших друзей будет ждать лучший вид на танцпол, отдельная ВИП-зона, личный официант и 2 бутылки полусладкого розового вина коллаборации завода «Бельбек» и Устричного пляжа в подарок!
- Серебряный браслет: просто подними руку и у тебя примут заказ вне очереди, все для того, чтобы потратить время на танцы и веселье! Стоимость браслета 3500 ₽ , количество ограничено.
✨ Вход свободный
🚫 Со своими напитками и едой - нельзя
☀️ Бронь столов и все вопросы по телефону +7 (978) 144-95-77
Это будет не просто вечеринка. Это — последняя страница лета, и она станет самой красивой.
Показать больше
3 мс. назад
«Тургояк: озеро, где время течет медленнее»
Наш визит на Тургояк начался облачным полднем. Мы сгружали каяки на берег, смеясь и переговариваясь, пока прозрачнейшие волны прибоя перекатывали камушки на кромке пляжа.
Тургояк встретил нас тишиной.
Не той пустотой, что наводит тоску, а благородной, древней тишиной места, где человек — лишь гость. Здесь не было воя моторов, только плеск весел да крики чаек. Байкал может быть величественнее, но Тургояк — камернее, уютнее. Будто сама природа (а точнее губернатор Челябинской области) решила сохранить его в неприкосновенности, запретив бензиновые двигатели. Вместо них — белые паруса, скользящие по воде, как призраки старых кораблей.
Мы обплыли озеро за три дня, останавливаясь в бухтах, где скалы отражались в воде с фотографической четкостью. Или, как в карельских пейзажах, берега спускались к воде грудами живописных камней, поросшие соснами. Но главным приключением стал остров Веры.
Остров, который помнит мамонтов
На второй день у нас была дневка, которую мы целиком посвятили пешим прогулкам. И первой из них (до наплыва первой волны туристов) была прогулка на остров Веры. Когда-то здесь жили люди. Не те, что строят города, а те, что разговаривали с духами камней. Их дольмены и лабиринты, сложенные шесть тысяч лет назад, все еще стоят, заросшие мхом, но непобежденные временем. Мы ходили между ними, касаясь шершавых плит, и казалось, будто воздух здесь гуще, насыщеннее.
После острова мы рванули на хребет Заозёрный. Тропа вилась между скал, то исчезая, то появляясь вновь, будто проверяя нас на прочность. Зато вид сверху стоил всех усилий: Тургояк лежал внизу, синий и бескрайний, а паруса яхт казались крошечными бумажными корабликами.
Баня, костер и песок, который поет
Вечера здесь были особенными. После бани с пихтовыми вениками (аромат стоял такой, что казалось, будто дышишь самим лесом) мы ныряли в озеро. Вода была настолько чистой, что даже ночью, при свете звезд, видно было дно.
А потом — костер. Разговоры, смех и жареные маршмелушки на шпажках. Оплывая озеро по всему периметру, мы собирали кварц на диких пляжах — розовый, молочный, прозрачный, как слеза. Песок здесь был необычный, с крупными зернами, и когда идешь по нему босиком, кажется, будто он поет под ногами.
Когда мы отплывали от песчаных пляжей, то песок на дне сменился крупными красивыми камнями. В удивительно прозрачной воде казалось, их можно было коснуться рукой. Но двухметровой весло, опущенное вниз, не доставало до дна.
«Откуда у вас такие лодки?»
За всю поездку мы не встретили ни одного каякера. Только людей на сапах, которые жались к берегу, боясь далеко отплывать от берега. Они смотрели на наши лодки с завистью и недоумением.
— Вы что, сами их сюда привезли? Из Тольятти?!
— Ага, — ухмылялся наш рулевой, — восемьсот километров — не шутка.
Они качали головами, а мы отплывали дальше, оставляя за собой лишь легкую рябь.
Когда мы покидали уютные бухты, то временами сталкивались с нагоняемой ветром волной. Но каякам она была нипочем - гребец был укрыт "юбкой" из неопрена и даже когда волна захлестывала борт, внутри каяка было сухо и тепло. Себя уверенно в каяке чувствовали даже гребцы, севшие в каяк впервые.
Когда мы грузили каяки обратно в прицеп, и в последний раз оглядываясь на озеро. Солнце жарило в небесах, раскаляя крупный Тургоякский песок на пляже, омываемый бирюзовый прозрачной водой.
— Обязательно вернемся, — сказал кто-то.
И мы знаем — это не просто слова. Тургояк теперь часть нас. Такая же, как загар, который еще неделю не смоется, или кварц, лежащий в кармане на память.
Место, где время течет медленнее. Где паруса рисуют узоры на воде, а камни помнят эпохи. Где вечер у костра кажется бесконечным, а утро — всегда новым приключением.
Мы обязательно вернемся.
Наш визит на Тургояк начался облачным полднем. Мы сгружали каяки на берег, смеясь и переговариваясь, пока прозрачнейшие волны прибоя перекатывали камушки на кромке пляжа.
Тургояк встретил нас тишиной.
Не той пустотой, что наводит тоску, а благородной, древней тишиной места, где человек — лишь гость. Здесь не было воя моторов, только плеск весел да крики чаек. Байкал может быть величественнее, но Тургояк — камернее, уютнее. Будто сама природа (а точнее губернатор Челябинской области) решила сохранить его в неприкосновенности, запретив бензиновые двигатели. Вместо них — белые паруса, скользящие по воде, как призраки старых кораблей.
Мы обплыли озеро за три дня, останавливаясь в бухтах, где скалы отражались в воде с фотографической четкостью. Или, как в карельских пейзажах, берега спускались к воде грудами живописных камней, поросшие соснами. Но главным приключением стал остров Веры.
Остров, который помнит мамонтов
На второй день у нас была дневка, которую мы целиком посвятили пешим прогулкам. И первой из них (до наплыва первой волны туристов) была прогулка на остров Веры. Когда-то здесь жили люди. Не те, что строят города, а те, что разговаривали с духами камней. Их дольмены и лабиринты, сложенные шесть тысяч лет назад, все еще стоят, заросшие мхом, но непобежденные временем. Мы ходили между ними, касаясь шершавых плит, и казалось, будто воздух здесь гуще, насыщеннее.
После острова мы рванули на хребет Заозёрный. Тропа вилась между скал, то исчезая, то появляясь вновь, будто проверяя нас на прочность. Зато вид сверху стоил всех усилий: Тургояк лежал внизу, синий и бескрайний, а паруса яхт казались крошечными бумажными корабликами.
Баня, костер и песок, который поет
Вечера здесь были особенными. После бани с пихтовыми вениками (аромат стоял такой, что казалось, будто дышишь самим лесом) мы ныряли в озеро. Вода была настолько чистой, что даже ночью, при свете звезд, видно было дно.
А потом — костер. Разговоры, смех и жареные маршмелушки на шпажках. Оплывая озеро по всему периметру, мы собирали кварц на диких пляжах — розовый, молочный, прозрачный, как слеза. Песок здесь был необычный, с крупными зернами, и когда идешь по нему босиком, кажется, будто он поет под ногами.
Когда мы отплывали от песчаных пляжей, то песок на дне сменился крупными красивыми камнями. В удивительно прозрачной воде казалось, их можно было коснуться рукой. Но двухметровой весло, опущенное вниз, не доставало до дна.
«Откуда у вас такие лодки?»
За всю поездку мы не встретили ни одного каякера. Только людей на сапах, которые жались к берегу, боясь далеко отплывать от берега. Они смотрели на наши лодки с завистью и недоумением.
— Вы что, сами их сюда привезли? Из Тольятти?!
— Ага, — ухмылялся наш рулевой, — восемьсот километров — не шутка.
Они качали головами, а мы отплывали дальше, оставляя за собой лишь легкую рябь.
Когда мы покидали уютные бухты, то временами сталкивались с нагоняемой ветром волной. Но каякам она была нипочем - гребец был укрыт "юбкой" из неопрена и даже когда волна захлестывала борт, внутри каяка было сухо и тепло. Себя уверенно в каяке чувствовали даже гребцы, севшие в каяк впервые.
Когда мы грузили каяки обратно в прицеп, и в последний раз оглядываясь на озеро. Солнце жарило в небесах, раскаляя крупный Тургоякский песок на пляже, омываемый бирюзовый прозрачной водой.
— Обязательно вернемся, — сказал кто-то.
И мы знаем — это не просто слова. Тургояк теперь часть нас. Такая же, как загар, который еще неделю не смоется, или кварц, лежащий в кармане на память.
Место, где время течет медленнее. Где паруса рисуют узоры на воде, а камни помнят эпохи. Где вечер у костра кажется бесконечным, а утро — всегда новым приключением.
Мы обязательно вернемся.
Показать больше
3 мс. назад
«Копыта обязательно в лицо стоматологу подсовывать?»: Волочкову подняли на смех из-за поведения в клинике
Балерина продолжает в своем репертуаре. Удивить кого-то ногами Анастасии Волочковой уже практически не удается, но в случае со стоматологом, удалявшим ей зуб мудрости, это все-таки получилось.
Не успела Анастасия Волочкова вернуться с райских Мальдив, как у нее случилась очередная напасть. Бывшая прима Большого театра оказалась в стоматологии. Там звезде сцены удалили зуб мудрости. Волочкова, не изменяя своим традициям, поделилась подробным отчетом сего мероприятия.
Балерина заявилась в стоматологическую клинику в коротком платье на бретелях, которое едва прикрывало все приличные и не очень места. На кушетку экс-прима вскарабкалась прямо босиком, расположив ноги перед лицом стоматолога. Впрочем, зная привычки Насти, это уже будто и не удивляет.
«Мне удаляли зуб мудрости. Верю, что мудрость не удалили. Сегодня сняли швы. Для меня это равносильно операции. Теперь я с красивыми зубами и ногами готова дарить вам свое творчество», — заявила блондинка, едва отойдя от наркоза.
Едва двигающая языком Волочкова засыпала доктора комплиментами и словами благодарности. Ехидные пользователи социальных сетей профессионализм врача тоже отметили, ведь далеко не каждый смог бы сохранить самообладание при виде конечностей главной шпагатессы страны.
«Во Настька дает. Ещё бы веничек с собой прихватила и залетела бы как в баню», «В таком состоянии мы ее уже видели. Волочкова под наркозом и под шампанским выглядит одинаково», «А копыта было обязательно в лицо стоматологу подсовывать?», «Для чего в таком виде тащиться в клинику. Хотя бы из уважения к персоналу можно было прикрыться или по крайней мере захватить удобные тапочки или носки», «Понятно дело, что лето и жара, но я уже не могу видеть в ленте волочковские ноги», «Неужели она думает, что это красиво?»— пишет народ.
А вот сама Анастасия Юрьевна убеждена, что возможность даже просто лицезреть ее конечности — истинная блажь для каждого. Балерина с гордостью выставляет ноги на всеобщее обозрение и далеко отправляет каждого, кто смеет ее одернуть.
Балерина продолжает в своем репертуаре. Удивить кого-то ногами Анастасии Волочковой уже практически не удается, но в случае со стоматологом, удалявшим ей зуб мудрости, это все-таки получилось.
Не успела Анастасия Волочкова вернуться с райских Мальдив, как у нее случилась очередная напасть. Бывшая прима Большого театра оказалась в стоматологии. Там звезде сцены удалили зуб мудрости. Волочкова, не изменяя своим традициям, поделилась подробным отчетом сего мероприятия.
Балерина заявилась в стоматологическую клинику в коротком платье на бретелях, которое едва прикрывало все приличные и не очень места. На кушетку экс-прима вскарабкалась прямо босиком, расположив ноги перед лицом стоматолога. Впрочем, зная привычки Насти, это уже будто и не удивляет.
«Мне удаляли зуб мудрости. Верю, что мудрость не удалили. Сегодня сняли швы. Для меня это равносильно операции. Теперь я с красивыми зубами и ногами готова дарить вам свое творчество», — заявила блондинка, едва отойдя от наркоза.
Едва двигающая языком Волочкова засыпала доктора комплиментами и словами благодарности. Ехидные пользователи социальных сетей профессионализм врача тоже отметили, ведь далеко не каждый смог бы сохранить самообладание при виде конечностей главной шпагатессы страны.
«Во Настька дает. Ещё бы веничек с собой прихватила и залетела бы как в баню», «В таком состоянии мы ее уже видели. Волочкова под наркозом и под шампанским выглядит одинаково», «А копыта было обязательно в лицо стоматологу подсовывать?», «Для чего в таком виде тащиться в клинику. Хотя бы из уважения к персоналу можно было прикрыться или по крайней мере захватить удобные тапочки или носки», «Понятно дело, что лето и жара, но я уже не могу видеть в ленте волочковские ноги», «Неужели она думает, что это красиво?»— пишет народ.
А вот сама Анастасия Юрьевна убеждена, что возможность даже просто лицезреть ее конечности — истинная блажь для каждого. Балерина с гордостью выставляет ноги на всеобщее обозрение и далеко отправляет каждого, кто смеет ее одернуть.
Показать больше
3 мс. назад
В Геленджике вместо отдыха и безопасности — ужас и опасность. Сегодня на пляже возле фонтана обнаружил шприцы заполнены кровью. Это не просто хамство или безответственность — это угроза жизни и здоровью людей, в первую очередь детей, которые бегают босиком по песку.
Кто допустил такое? Где службы, которые должны следить за чистотой и безопасностью общественных мест? Почему мы платим налоги, а в итоге сталкиваемся с угрозами, которых можно было легко избежать? #безопасность #пляж #позор
Кто допустил такое? Где службы, которые должны следить за чистотой и безопасностью общественных мест? Почему мы платим налоги, а в итоге сталкиваемся с угрозами, которых можно было легко избежать? #безопасность #пляж #позор
Показать больше
3 мс. назад
Кишечная палочка, грибок, стафилококки — всё это может жить у вас... прямо у порога
Коврик для обуви — идеальное место для микробов: грязь, влага, тепло. А теперь подумайте: вы наступили в обуви, потом прошлись босиком по дому, ребёнок поиграл на полу... 🦠
Что с этим делать?
✅ Мойте коврик хотя бы раз в неделю — с мылом или антисептиком.
✅ Не ждите, пока он "совсем испортится" — меняйте раз в 3–6 месяцев.
✅ Лучше выбирать резиновый коврик — тканевые впитывают всё подряд.
✅ Если можно — держите его снаружи квартиры, а не внутри.
Коврик для обуви — идеальное место для микробов: грязь, влага, тепло. А теперь подумайте: вы наступили в обуви, потом прошлись босиком по дому, ребёнок поиграл на полу... 🦠
Что с этим делать?
✅ Мойте коврик хотя бы раз в неделю — с мылом или антисептиком.
✅ Не ждите, пока он "совсем испортится" — меняйте раз в 3–6 месяцев.
✅ Лучше выбирать резиновый коврик — тканевые впитывают всё подряд.
✅ Если можно — держите его снаружи квартиры, а не внутри.
Показать больше
3 мс. назад
Из автобиографии Оззи Осборна «Я - Оззи. Все, что мне удалось вспомнить».
«У Дона Ардена была репутация парня, который сделает тебя знаменитым на весь мир, но при этом обдерет до нитки. Он не проворачивал никаких сложных финансовых схем, он просто, черт побери, не платил. Вот и всё. Разговор обычно был примерно такой: "Дон, ты должен мне миллион фунтов, можно мне получить деньги, пожалуйста?" – а он: "Нет, нельзя". Конец разговора. А если лично прийти к нему в офис и попросить денег, то велика вероятность уехать оттуда на скорой.
И вот мы сидели в офисе Дона и слушали его речь. Он был низкорослым парнем, с фигурой и характером злого ротвейлера, а еще у него был невероятный крикливый голос. Он брал трубку и так громко кричал в нее своему администратору, что сотрясалась вся планета. Когда встреча закончилась, мы все встали и сказали, как нам приятно с ним познакомиться и бла-бла-бла, хотя больше не хотели иметь с ним никаких дел. А потом, когда мы выходили из офиса, он представил нас девушке, на которую орал в трубку половину встречи.
"Это Шэрон, моя дочь, – рявкнул он. – Шэрон, проводи этих ребят до машины, хорошо?" Я улыбнулся ей, а она посмотрела на меня с опаской. Наверное, подумала, что я сумасшедший, потому что стоял там в своей пижаме, босиком и с краном от горячей воды вместо кулона.
Но потом, когда Дон вернулся в офис и закрыл за собой дверь, я отмочил шутку, и она улыбнулась. Я чуть не упал. Это была самая красивая улыбка, виденная мной в жизни. А потом она засмеялась. Мне стало так хорошо, когда я услышал ее смех. Я хотел смешить ее снова, и снова, и снова».
#геройнеделиrockfm
«У Дона Ардена была репутация парня, который сделает тебя знаменитым на весь мир, но при этом обдерет до нитки. Он не проворачивал никаких сложных финансовых схем, он просто, черт побери, не платил. Вот и всё. Разговор обычно был примерно такой: "Дон, ты должен мне миллион фунтов, можно мне получить деньги, пожалуйста?" – а он: "Нет, нельзя". Конец разговора. А если лично прийти к нему в офис и попросить денег, то велика вероятность уехать оттуда на скорой.
И вот мы сидели в офисе Дона и слушали его речь. Он был низкорослым парнем, с фигурой и характером злого ротвейлера, а еще у него был невероятный крикливый голос. Он брал трубку и так громко кричал в нее своему администратору, что сотрясалась вся планета. Когда встреча закончилась, мы все встали и сказали, как нам приятно с ним познакомиться и бла-бла-бла, хотя больше не хотели иметь с ним никаких дел. А потом, когда мы выходили из офиса, он представил нас девушке, на которую орал в трубку половину встречи.
"Это Шэрон, моя дочь, – рявкнул он. – Шэрон, проводи этих ребят до машины, хорошо?" Я улыбнулся ей, а она посмотрела на меня с опаской. Наверное, подумала, что я сумасшедший, потому что стоял там в своей пижаме, босиком и с краном от горячей воды вместо кулона.
Но потом, когда Дон вернулся в офис и закрыл за собой дверь, я отмочил шутку, и она улыбнулась. Я чуть не упал. Это была самая красивая улыбка, виденная мной в жизни. А потом она засмеялась. Мне стало так хорошо, когда я услышал ее смех. Я хотел смешить ее снова, и снова, и снова».
#геройнеделиrockfm
Показать больше
3 мс. назад
«Я старалась»: Дана Борисова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Крыму. 49-летняя телеведущая и актриса проводит лето в Крыму. Дана Борисова примерила черное монокини на курорте. Звезда экрана наслаждается солнечной погодой в Крыму. Дана выбрала отель в поселке Песчаное в Бахчисарайском районе. Она успела прийти в форму для пляжных фотосессий. Борисова позировала босиком в купальнике у бассейна с шезлонгами. Она продемонстрировала стройное загорелое тело. Телеведущая сделала легкий макияж и собрала светлые волосы в небрежную прическу с выпущенными прядями. «Всё утро старалась, и фото в купальнике получилось. Вроде ничего», — сообщила Борисова
Показать больше
3 мс. назад
«Я видел немцев в трёх разных состояниях. В 1941-42 годах они были сытыми, уверенными завоевателями, с засученными рукавами, как хозяева! В 1943-м году в их поведении уже чувствовалось: «С этими» (советской армией) надо сражаться на равных. В конце 1944-45 годов они ходили с голодными глазами и просили суп у наших солдат на кухне, униженно смотря им в глаза.
Когда началась война, я уже три месяца служил под Хмельницким в мотострелковом полку. Мы все понимали, что война неизбежна, для нас это не было неожиданностью. Больше всего я боялся, что она скоро закончится! Я был уверен, что германские рабочие и крестьяне поднимут восстание, а мы придём, и в Берлине уже будет советская власть. Я искренне так думал, мне хотелось повоевать, я был ещё мальчишкой. А наши женщины плакали, они были мудрее нас.
В первых боях под Уманью я получил ранение, и, будучи на санитарной машине, попал в плен к немцам. Тогда в плен взяли 103 тысячи наших солдат, и я оказался среди них. Чудом удалось сбежать — перебрался через колючую проволоку в соседний деревенский дом. Там у хозяйки попросил одежду, вымазался грязью, чтобы выглядеть как местный, и вышел на улицу. На улице стояли немецкие танки и солдаты, но я, будучи весь в грязи, нахально прошёл мимо них, и никто даже не обратил на меня внимания. Только наши женщины и мужчины, стоявшие напротив, поняли всё, но не сказали ни слова.
Я шёл босиком через всю оккупированную Украину. У меня было почти звериное чутьё — заходя в деревню, я интуитивно знал, в какой дом постучать, чтобы попросить еды, и ни разу не ошибся. Иногда я смотрю современные фильмы о войне, где пленным будто позволяли «лишнее» с женщинами. Я поражаюсь — у меня таких мыслей не было, психология была другая, поведение иное. Была только одна цель: выжить, и она вытесняла всё остальное.
Я был в плену четыре раза, но нигде не задерживался и бежал при первой же возможности. Позже попал в Освенцим.
Приведу один, казалось бы, «безобидный» эпизод: чтобы занять пленных, нас заставляли переносить снаряды с одного угла на другой. Какому-то немцу во мне что-то не понравилось, и он наказал меня — заставил стоять с тяжёлым снарядом в руках десять минут. Такое мелкое издевательство. Иногда немцы бросали сигарету на землю и наблюдали, как пленные борются за неё.
Советских военнопленных содержали как животных, с алюминиевыми жетонами на груди. Пленные англичане, французы, канадцы, итальянцы жили иначе — почти как свободные, работали, играли в волейбол, получали письма и посылки, делились шоколадом с охранниками.
Нас освободили советские солдаты, и это сыграло большую роль: если бы нас освободили американцы, я бы сразу попал в ГУЛАГ.
Меня допрашивали тридцать три раза, а потом ещё долго следили за мной. Помню, на одном из первых допросов мне, человеку, который голодал несколько лет и был ослаблен лагерем, дали полный стакан коньяка и сигару — специально, чтобы я выпил и всё выдал. Я болтал всё, что знал! Но, поскольку был уверен в своей невиновности и помнил, что делал и где был каждый день плена, мне поверили. Мне повезло — могли посадить или расстрелять, не разобравшись.
Вообще, я считаю, что хорошо, что всё это было. Благодаря этому я понял людей, понял жизнь.
Когда вернулся домой, отец хотел меня расспросить, как всё было, а мать сразу сказала: «Я не хочу ничего об этом слышать». Так они и не узнали ничего.
После окончания учёбы меня не принимали ни в один театр, где была правительственная ложа, из-за того, что я был в плену во время войны.
В целом, я уверен: если бы история сложилась иначе и фашисты победили, то все сталинские репрессии показались бы нашему народу мелочью. Я хочу, чтобы молодое поколение поняло — они живут благодаря подвигу наших солдат и народа. Я знаю, что тогда ушло много талантливых, сильных людей с другой психологией.
Без знания прошлого, без памяти о войне — нации не будет, мы как народ не состоимся. Иногда в разговорах о прошлом и войне я вижу в глазах людей мысль: «Зачем ты это говоришь?» Люди не хотят тревожиться.
Для меня 9 мая — тяжёлый день. Я стараюсь уйти куда-то побыть одному и отключаю телефон…
Николай Сергеевич Лебедев, народный артист России»
Когда началась война, я уже три месяца служил под Хмельницким в мотострелковом полку. Мы все понимали, что война неизбежна, для нас это не было неожиданностью. Больше всего я боялся, что она скоро закончится! Я был уверен, что германские рабочие и крестьяне поднимут восстание, а мы придём, и в Берлине уже будет советская власть. Я искренне так думал, мне хотелось повоевать, я был ещё мальчишкой. А наши женщины плакали, они были мудрее нас.
В первых боях под Уманью я получил ранение, и, будучи на санитарной машине, попал в плен к немцам. Тогда в плен взяли 103 тысячи наших солдат, и я оказался среди них. Чудом удалось сбежать — перебрался через колючую проволоку в соседний деревенский дом. Там у хозяйки попросил одежду, вымазался грязью, чтобы выглядеть как местный, и вышел на улицу. На улице стояли немецкие танки и солдаты, но я, будучи весь в грязи, нахально прошёл мимо них, и никто даже не обратил на меня внимания. Только наши женщины и мужчины, стоявшие напротив, поняли всё, но не сказали ни слова.
Я шёл босиком через всю оккупированную Украину. У меня было почти звериное чутьё — заходя в деревню, я интуитивно знал, в какой дом постучать, чтобы попросить еды, и ни разу не ошибся. Иногда я смотрю современные фильмы о войне, где пленным будто позволяли «лишнее» с женщинами. Я поражаюсь — у меня таких мыслей не было, психология была другая, поведение иное. Была только одна цель: выжить, и она вытесняла всё остальное.
Я был в плену четыре раза, но нигде не задерживался и бежал при первой же возможности. Позже попал в Освенцим.
Приведу один, казалось бы, «безобидный» эпизод: чтобы занять пленных, нас заставляли переносить снаряды с одного угла на другой. Какому-то немцу во мне что-то не понравилось, и он наказал меня — заставил стоять с тяжёлым снарядом в руках десять минут. Такое мелкое издевательство. Иногда немцы бросали сигарету на землю и наблюдали, как пленные борются за неё.
Советских военнопленных содержали как животных, с алюминиевыми жетонами на груди. Пленные англичане, французы, канадцы, итальянцы жили иначе — почти как свободные, работали, играли в волейбол, получали письма и посылки, делились шоколадом с охранниками.
Нас освободили советские солдаты, и это сыграло большую роль: если бы нас освободили американцы, я бы сразу попал в ГУЛАГ.
Меня допрашивали тридцать три раза, а потом ещё долго следили за мной. Помню, на одном из первых допросов мне, человеку, который голодал несколько лет и был ослаблен лагерем, дали полный стакан коньяка и сигару — специально, чтобы я выпил и всё выдал. Я болтал всё, что знал! Но, поскольку был уверен в своей невиновности и помнил, что делал и где был каждый день плена, мне поверили. Мне повезло — могли посадить или расстрелять, не разобравшись.
Вообще, я считаю, что хорошо, что всё это было. Благодаря этому я понял людей, понял жизнь.
Когда вернулся домой, отец хотел меня расспросить, как всё было, а мать сразу сказала: «Я не хочу ничего об этом слышать». Так они и не узнали ничего.
После окончания учёбы меня не принимали ни в один театр, где была правительственная ложа, из-за того, что я был в плену во время войны.
В целом, я уверен: если бы история сложилась иначе и фашисты победили, то все сталинские репрессии показались бы нашему народу мелочью. Я хочу, чтобы молодое поколение поняло — они живут благодаря подвигу наших солдат и народа. Я знаю, что тогда ушло много талантливых, сильных людей с другой психологией.
Без знания прошлого, без памяти о войне — нации не будет, мы как народ не состоимся. Иногда в разговорах о прошлом и войне я вижу в глазах людей мысль: «Зачем ты это говоришь?» Люди не хотят тревожиться.
Для меня 9 мая — тяжёлый день. Я стараюсь уйти куда-то побыть одному и отключаю телефон…
Николай Сергеевич Лебедев, народный артист России»
Показать больше
3 мс. назад
ПО ПОБЕРЕЖЬЮ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
***
Залив рассказывает сказки:
Мурлычит ласково волна.
Лучей в воде искрятся краски,
Как брызги крепкого вина.
Под говорливый гомон чаек,
Иду неспешно босиком.
Из перламутра, крылья створок,
Белеют раковин кругом.
Песок мне ноги обжигает.
На небе шхуны облаков.
Их к горизонту подгоняет
Дыханье свежее ветров.
Торчат в причудливом изгибе,
У сосен, корни из песка.
А над заливом, солнце в нимбе,
Тепло нам шлёт издалека.
***
Золотится поверхность морская,
В уходящего солнца лучах.
И на берег волна набегая,
Тихо плещет в прибрежных камнях.
Белых чаек над водами крики,
Исчезая уходят в закат.
Словно белого хлеба ковриги,
Облака в синем небе парят.
Шепчет саги прибрежная галька
О прошедших давно временах.
И синиц говорливая стайка
Свои песни щебечет в ветвях.
Свежий ветер осоку качает.
К горизонту уходят суда.
Море, звёздное небо встречает,
Что вслед солнцу приходит сюда.
***
Шумят, шумят залива воды.
И волн белеют буруны.
Проходят дни, проходят годы,
Но также катятся они.
Когда - то пушки грохотали.
Вставала красная заря.
За горизонт стремились в дали
Эскадры грозные Петра.
И новый град вставал у моря,
Среди лесов, полей, болот.
За это место с шведом споря,
Творил империю народ.
На смену старым, деревяным
Пришли стальные корабли.
Но также с шумом непрестанным
Белеют гребни волн вдали.
Автор: Сергей Залежний
Автор фото: Сергей Залежний
***
Залив рассказывает сказки:
Мурлычит ласково волна.
Лучей в воде искрятся краски,
Как брызги крепкого вина.
Под говорливый гомон чаек,
Иду неспешно босиком.
Из перламутра, крылья створок,
Белеют раковин кругом.
Песок мне ноги обжигает.
На небе шхуны облаков.
Их к горизонту подгоняет
Дыханье свежее ветров.
Торчат в причудливом изгибе,
У сосен, корни из песка.
А над заливом, солнце в нимбе,
Тепло нам шлёт издалека.
***
Золотится поверхность морская,
В уходящего солнца лучах.
И на берег волна набегая,
Тихо плещет в прибрежных камнях.
Белых чаек над водами крики,
Исчезая уходят в закат.
Словно белого хлеба ковриги,
Облака в синем небе парят.
Шепчет саги прибрежная галька
О прошедших давно временах.
И синиц говорливая стайка
Свои песни щебечет в ветвях.
Свежий ветер осоку качает.
К горизонту уходят суда.
Море, звёздное небо встречает,
Что вслед солнцу приходит сюда.
***
Шумят, шумят залива воды.
И волн белеют буруны.
Проходят дни, проходят годы,
Но также катятся они.
Когда - то пушки грохотали.
Вставала красная заря.
За горизонт стремились в дали
Эскадры грозные Петра.
И новый град вставал у моря,
Среди лесов, полей, болот.
За это место с шведом споря,
Творил империю народ.
На смену старым, деревяным
Пришли стальные корабли.
Но также с шумом непрестанным
Белеют гребни волн вдали.
Автор: Сергей Залежний
Автор фото: Сергей Залежний
Показать больше
3 мс. назад
12+ «Когда ты меня заберешь» — спрашивала я маму.
Мне было пять, когда я научилась звонить маме.
Для этого я опасливо кралась в прихожую, к телефону, и набирала цифры, указанные в бабушкиной записной книжке, напротив маминого имени: «Нина, Москва, домашний».
Мой указательный пальчик нырял в нужные кружочки цифр, и накручивал телефонный диск.
— Алло! Алло! — разрывал нытье гудков мамин встревоженный голос.
Там, в Москве, она слышала короткие трели междугороднего звонка и понимала: что-то случилось.
Бабушка и дедушка, растившие меня в приморском городе, никогда не звонили просто так. Никогда.
Так договорились изначально, потому что любой звонок — это деньги, лишних денег ни у кого нет, поэтому, если никто не звонит, значит, все в порядке.
Мама хватала трубку в панике:
— Алло!
— Когда ты меня заберешь? — спрашивала я.
— Все в порядке? — спрашивала мама.
— Когда ты меня заберешь? — спрашивала я.
— Где бабушка? Дедушка? — спрашивала мама.
— Когда ты меня заберешь? — спрашивала я.
— Разве тебе плохо с бабушкой и дедушкой? — спрашивала мама.
Я всегда недоумевала: почему взрослые отвечают не на тот вопрос, который им задают, и чаще всего отвечают вопросами. Ведь на мой вопрос «когда?» ответ должен быть совсем другим. Например, «скоро», или «завтра», или «через неделю». Мама так никогда не отвечала. Никогда.
Меня постоянно наказывали за эти звонки. Ставили в угол.
«Ишь ты, миллионерша, — злилась бабушка на меня и добавляла, обращаясь к дедушке. — Ну сделай что-нибудь!»
Дедушка делал что-нибудь, но это было бесполезно. Он прятал от меня записную книжку, но номер я знала наизусть, он выключал телефонный шнур из розетки, но я быстро нашла, как включить его обратно, он поставил телефон на высокую полку для шапок, но я научилась залезать туда, выстроив лестницу из банкетки и табуретки, он однажды просто спрятал от меня телефон. А я пошла и позвонила маме от соседки тети Нади.
— Когда ты меня заберешь? — спросила я у мамы.
А мама вдруг заплакала и сказала:
— Сил моих больше нет… Заберу на неделе… В сад пойдешь здесь…
Вечером был скандал. Бабушка пила валокордин, дедушка смотрел новости на пределе громкости, я стояла в углу.
— Довела мать! Довела! — кричала бабушка в мою сторону, перекрикивая голос диктора из телевизора. — Будешь ходить теперь в детский сад, как сирота! Вот посмотришь!
Все мои друзья во дворе ходили в детский сад, и никто из них не был сиротой. Я не понимала, почему меня всегда пугали детским садом и призывали радоваться, что я живу с бабушкой и дедушкой и в сад не хожу.
В саду много детей и игрушек, никто оттуда не возвращается несчастным.
Через неделю за мной из Москвы прилетела мама. Она выглядела растерянной. Сказала непонятное мне слово — «дожала». Я не поняла, хорошее это слово или плохое, я была в дымке счастья.
Я улетала к маме и папе. Туда, в Москву. Я буду ходить там в детский сад, а вечером мама будет меня забирать и кормить сосиской и зеленым горошком. Я такое видела в кино. А потом мама будет укрывать меня одеялком и рассказывать на ночь сказку.
Мне не нужны ни сосиски, ни сказки, ни горошек, ни одеялки — мне нужна мама и больше никто.
В ночь перед отлетом у бабушки случилась истерика. Я слышала, как она била на кухне посуду, кричала «Зачем?» и «Как мы без нее? Кааак? Я же ее вынянчила! С рождения!», а дедушка и мама ловили бабушкины руки и успокаивали.
— Успокойся! Успокойся! — кричал дедушка. И это его «успокойся!» было худшим успокоительным в мире.
— Мы попробуем, мы просто попробуем, может, ей не понравится в саду, — бормотала мама.
Я смотрела в потолок и думала о том, что если мне не понравится в саду, об этом никто не узнает. Я хочу жить с мамой. Хочу и буду.
Мы с мамой улетели в Москву в августе 1987 года.
В сентябре я пошла в московский детский сад около дома. Мне было почти шесть (в ноябре день рождения), я пошла в подготовительную группу.
Моя первая воспитательница отличалась строгостью, которая превращалась в грубость в отсутствие родителей. В группе было 26 детей, я пришла 27-й, чем вызвала возмущение воспитателя. Мол, и так перебор, а тут пихают и пихают.
Мы, дети, все ее боялись. Утром многие плакали, висли на родителях. Родители силой отдирали от себя детские ладошки.
Я никогда не плакала, даже когда очень хотелось. Я понимала, что на кону — жизнь с мамой и ее поцелуй перед сном.
Каждый вечер мама звонила бабушке и заставляла меня поговорить с ней. По факту я слушала, как бабушка плачет в трубку. Из-за меня. Я слушала, как бабушка всхлипывает в трубку и смотрела на маму в поисках сочувствия.
Но мама качала головой, всем своим видом показывая, что эту кашу заварила я.
Вместо одеяла меня накрывали ответственностью, вместо сказки рассказывали о том, что надо ценить родных и близких. Вероятно, подразумевалось, что я — не ценю.
В саду было мучительно. Я не умела играть с другими детьми, умела только заниматься, как с бабушкой. На занятиях я была выскочкой, всегда тянула руку.
— Какое это животное? — спрашивала воспитательница, показывая группе картинку лося.
— Олень?
— Коза?
— Носорог?
Дети не знали, а я знала.
— Лось! — отвечала я.
Воспитательница кивала, но поджимала губы. Словно была не рада. Она не могла мне простить, что я — двадцать седьмая.
На обед был суп.
В супе плавал вареный лук. Я ненавижу лук. Бабушка очень вкусно готовила всегда и знала мою нелюбовь к луку. А тут, в саду, всем плевать, что я люблю и не люблю.
Я аккуратно выпивала бульон, сцеживая его в ложку по краям, а жижу оставляла в тарелке.
Воспитательница зачерпывала ложку жижи, сверху распластался лук.
— Открывай рот, — говорила она.
Я тяжело дышала, умоляюще смотрела на нее, качала головой. Только не это.
— Открывай!
— Я наелась.
— Открывай! Я кому сказала?
Я покорно открывала рот, и мне туда заливали ненавистную луковую жижу, и задраивали рот слюнявчиком.
— Жуй. Жуй. Жуй, я сказала!
Я жевала, преодолевая рвотный рефлекс. Проглатывала. Потом меня отчаянно рвало в группе…
Воспитательница звонила маме.
— Не надо, не надо маме, — умоляла я. — Я больше так не буду. Не надо дергать ее с работы…
— Надо!
Мама приходила дерганная, забирала меня порывисто, нервно.
— Ты не выглядишь больной, — говорила она мне. И я чувствовала свою вину, что я — не больна.
Мне хотелось рассказать про лук, и про злую воспитательницу, и про все, но в пять лет слова «несправедливость» еще не было в моем лексиконе. Я не могла сформулировать свои мысли и просто плакала, тихо поскуливая.
— Хватит реветь, — злилась мама.
Я с собой в сад брала любимую игрушку — деревянного клоуна. Мне его подарил папа. В группу со своими игрушками было нельзя, приходилось оставлять клоуна в шкафчике. Однажды я взяла его с собой на прогулку.
— Нельзя брать с собой игрушки на улицу! — грозно сказала воспитательница.
— Я не знала, я думала, в группу нельзя, — пролепетала я и попыталась запихнуть клоуна в карман курточки. Но промахнулась. Клоун упал в лужу. Я его подняла, снова попыталась спрятать в карман, а он снова выпал.
Воспитательница подняла моего клоуна и… снова бросила в лужу.
Я наклонилась, подняла, она выхватила его и снова бросила. Я снова подняла. Она снова выхватила и снова бросила.
Я не поняла этой игры. Мне хотелось плакать. Вокруг стояли дети из нашей группы. Хулиган Петька смеялся. А тихоня Антон плакал. Все дети разные.
Мой клоун лежал в луже. Я не понимала, зачем поднимать его, если его снова бросят.
— Руки-крюки, — сказала мне воспитательница, наклонилась и забрала моего клоуна. Сказала, что пожалуется маме на мое поведение и отдаст игрушку.
— Руки-крюки, — сказала мне воспитательница, наклонилась и забрала моего клоуна. Сказала, что пожалуется маме на мое поведение и отдаст игрушку только маме.
— Я не знала, что нельзя, — крикнула я, чуть не плача, в спину воспитательницы. — Я больше так не буду.
Вечером мама отдала мне клоуна и спросила устало:
— Почему я каждый вечер должна выслушивать жалобы на тебя? Неужели так сложно просто слушаться воспитателя?
Я не знала, как ответить. Ответ получался какой-то очень длинный, я не могла его сформулировать.
— Я больше так не буду, — сказала я, привычно растворяясь в чувстве вины.
— Меня уволят с работы. Мне постоянно жалуются на тебя, звонят из сада. Мне приходится отпрашиваться. Меня уволят, Оля, и нам нечего будет есть.
Я молчу. Я совсем не знаю, что говорить.
Мне казалось, что жить с мамой — это счастье, но пока это совсем не выглядело счастьем. Даже наоборот.
Никаких сказок, горошков, одеялок. Только рвота, злость и клоуны в лужах…
Во время тихого часа в саду полагалось спать или лежать с закрытыми глазами. Я послушно лежала, не спала.
Рядом со мной на своей кровати лежал хулиган и задира Петька, который все время подкалывал другого моего соседа — тихоню Антошку.
Антошка спал со специальной пеленкой, у него не получалось контролировать свою физиологию. Это было неизменным поводом для шуток Петьки. Вот и в тот день он довел Антошку до слез, потому что, дождавшись, когда воспитатель выйдет, на всю группу громко прошептал: «Антошка — коричневые трусы! Антошка — какашка». Другие дети смеялись. Антошка лежал рядом и горько плакал. И я плакала от обиды за него.
— Хватит! Хватит! Хватит! — не выдержала я, крикнула в Петьку зло, что есть силы.
Мой голос раздался в полной тишине, отскочил от стен.
— Савельева, встать!
Воспитательница нависла надо мной огромной скалой. Я сползла с кроватки. Она схватила меня за плечо и поволокла на выход. Завела в туалет и поставила в угол.
— Постой и подумай о том, как орать в тихий час на всю группу! А я пойду матери позвоню…
— Не надо, — заплакала я. — Пожалуйста, не надо… Пожалуйста, я больше так не буду, никогда не буду, не звоните маме…
— Я ушла звонить, — сказала она и вышла из туалета.
Я стояла в углу, босиком на холодном полу, в клетчатой, сшитой мне бабушкой пижамке и горько плакала…
Мама забрала меня пораньше. Ничего не сказала, смотрела с осуждением. Это было самое страшное — молчаливое осуждение. Отчуждение.
В тот день я легла спать пораньше, потому что настроения играть не было никакого. К полуночи выяснилось, что я вся горю. Выз
Мне было пять, когда я научилась звонить маме.
Для этого я опасливо кралась в прихожую, к телефону, и набирала цифры, указанные в бабушкиной записной книжке, напротив маминого имени: «Нина, Москва, домашний».
Мой указательный пальчик нырял в нужные кружочки цифр, и накручивал телефонный диск.
— Алло! Алло! — разрывал нытье гудков мамин встревоженный голос.
Там, в Москве, она слышала короткие трели междугороднего звонка и понимала: что-то случилось.
Бабушка и дедушка, растившие меня в приморском городе, никогда не звонили просто так. Никогда.
Так договорились изначально, потому что любой звонок — это деньги, лишних денег ни у кого нет, поэтому, если никто не звонит, значит, все в порядке.
Мама хватала трубку в панике:
— Алло!
— Когда ты меня заберешь? — спрашивала я.
— Все в порядке? — спрашивала мама.
— Когда ты меня заберешь? — спрашивала я.
— Где бабушка? Дедушка? — спрашивала мама.
— Когда ты меня заберешь? — спрашивала я.
— Разве тебе плохо с бабушкой и дедушкой? — спрашивала мама.
Я всегда недоумевала: почему взрослые отвечают не на тот вопрос, который им задают, и чаще всего отвечают вопросами. Ведь на мой вопрос «когда?» ответ должен быть совсем другим. Например, «скоро», или «завтра», или «через неделю». Мама так никогда не отвечала. Никогда.
Меня постоянно наказывали за эти звонки. Ставили в угол.
«Ишь ты, миллионерша, — злилась бабушка на меня и добавляла, обращаясь к дедушке. — Ну сделай что-нибудь!»
Дедушка делал что-нибудь, но это было бесполезно. Он прятал от меня записную книжку, но номер я знала наизусть, он выключал телефонный шнур из розетки, но я быстро нашла, как включить его обратно, он поставил телефон на высокую полку для шапок, но я научилась залезать туда, выстроив лестницу из банкетки и табуретки, он однажды просто спрятал от меня телефон. А я пошла и позвонила маме от соседки тети Нади.
— Когда ты меня заберешь? — спросила я у мамы.
А мама вдруг заплакала и сказала:
— Сил моих больше нет… Заберу на неделе… В сад пойдешь здесь…
Вечером был скандал. Бабушка пила валокордин, дедушка смотрел новости на пределе громкости, я стояла в углу.
— Довела мать! Довела! — кричала бабушка в мою сторону, перекрикивая голос диктора из телевизора. — Будешь ходить теперь в детский сад, как сирота! Вот посмотришь!
Все мои друзья во дворе ходили в детский сад, и никто из них не был сиротой. Я не понимала, почему меня всегда пугали детским садом и призывали радоваться, что я живу с бабушкой и дедушкой и в сад не хожу.
В саду много детей и игрушек, никто оттуда не возвращается несчастным.
Через неделю за мной из Москвы прилетела мама. Она выглядела растерянной. Сказала непонятное мне слово — «дожала». Я не поняла, хорошее это слово или плохое, я была в дымке счастья.
Я улетала к маме и папе. Туда, в Москву. Я буду ходить там в детский сад, а вечером мама будет меня забирать и кормить сосиской и зеленым горошком. Я такое видела в кино. А потом мама будет укрывать меня одеялком и рассказывать на ночь сказку.
Мне не нужны ни сосиски, ни сказки, ни горошек, ни одеялки — мне нужна мама и больше никто.
В ночь перед отлетом у бабушки случилась истерика. Я слышала, как она била на кухне посуду, кричала «Зачем?» и «Как мы без нее? Кааак? Я же ее вынянчила! С рождения!», а дедушка и мама ловили бабушкины руки и успокаивали.
— Успокойся! Успокойся! — кричал дедушка. И это его «успокойся!» было худшим успокоительным в мире.
— Мы попробуем, мы просто попробуем, может, ей не понравится в саду, — бормотала мама.
Я смотрела в потолок и думала о том, что если мне не понравится в саду, об этом никто не узнает. Я хочу жить с мамой. Хочу и буду.
Мы с мамой улетели в Москву в августе 1987 года.
В сентябре я пошла в московский детский сад около дома. Мне было почти шесть (в ноябре день рождения), я пошла в подготовительную группу.
Моя первая воспитательница отличалась строгостью, которая превращалась в грубость в отсутствие родителей. В группе было 26 детей, я пришла 27-й, чем вызвала возмущение воспитателя. Мол, и так перебор, а тут пихают и пихают.
Мы, дети, все ее боялись. Утром многие плакали, висли на родителях. Родители силой отдирали от себя детские ладошки.
Я никогда не плакала, даже когда очень хотелось. Я понимала, что на кону — жизнь с мамой и ее поцелуй перед сном.
Каждый вечер мама звонила бабушке и заставляла меня поговорить с ней. По факту я слушала, как бабушка плачет в трубку. Из-за меня. Я слушала, как бабушка всхлипывает в трубку и смотрела на маму в поисках сочувствия.
Но мама качала головой, всем своим видом показывая, что эту кашу заварила я.
Вместо одеяла меня накрывали ответственностью, вместо сказки рассказывали о том, что надо ценить родных и близких. Вероятно, подразумевалось, что я — не ценю.
В саду было мучительно. Я не умела играть с другими детьми, умела только заниматься, как с бабушкой. На занятиях я была выскочкой, всегда тянула руку.
— Какое это животное? — спрашивала воспитательница, показывая группе картинку лося.
— Олень?
— Коза?
— Носорог?
Дети не знали, а я знала.
— Лось! — отвечала я.
Воспитательница кивала, но поджимала губы. Словно была не рада. Она не могла мне простить, что я — двадцать седьмая.
На обед был суп.
В супе плавал вареный лук. Я ненавижу лук. Бабушка очень вкусно готовила всегда и знала мою нелюбовь к луку. А тут, в саду, всем плевать, что я люблю и не люблю.
Я аккуратно выпивала бульон, сцеживая его в ложку по краям, а жижу оставляла в тарелке.
Воспитательница зачерпывала ложку жижи, сверху распластался лук.
— Открывай рот, — говорила она.
Я тяжело дышала, умоляюще смотрела на нее, качала головой. Только не это.
— Открывай!
— Я наелась.
— Открывай! Я кому сказала?
Я покорно открывала рот, и мне туда заливали ненавистную луковую жижу, и задраивали рот слюнявчиком.
— Жуй. Жуй. Жуй, я сказала!
Я жевала, преодолевая рвотный рефлекс. Проглатывала. Потом меня отчаянно рвало в группе…
Воспитательница звонила маме.
— Не надо, не надо маме, — умоляла я. — Я больше так не буду. Не надо дергать ее с работы…
— Надо!
Мама приходила дерганная, забирала меня порывисто, нервно.
— Ты не выглядишь больной, — говорила она мне. И я чувствовала свою вину, что я — не больна.
Мне хотелось рассказать про лук, и про злую воспитательницу, и про все, но в пять лет слова «несправедливость» еще не было в моем лексиконе. Я не могла сформулировать свои мысли и просто плакала, тихо поскуливая.
— Хватит реветь, — злилась мама.
Я с собой в сад брала любимую игрушку — деревянного клоуна. Мне его подарил папа. В группу со своими игрушками было нельзя, приходилось оставлять клоуна в шкафчике. Однажды я взяла его с собой на прогулку.
— Нельзя брать с собой игрушки на улицу! — грозно сказала воспитательница.
— Я не знала, я думала, в группу нельзя, — пролепетала я и попыталась запихнуть клоуна в карман курточки. Но промахнулась. Клоун упал в лужу. Я его подняла, снова попыталась спрятать в карман, а он снова выпал.
Воспитательница подняла моего клоуна и… снова бросила в лужу.
Я наклонилась, подняла, она выхватила его и снова бросила. Я снова подняла. Она снова выхватила и снова бросила.
Я не поняла этой игры. Мне хотелось плакать. Вокруг стояли дети из нашей группы. Хулиган Петька смеялся. А тихоня Антон плакал. Все дети разные.
Мой клоун лежал в луже. Я не понимала, зачем поднимать его, если его снова бросят.
— Руки-крюки, — сказала мне воспитательница, наклонилась и забрала моего клоуна. Сказала, что пожалуется маме на мое поведение и отдаст игрушку.
— Руки-крюки, — сказала мне воспитательница, наклонилась и забрала моего клоуна. Сказала, что пожалуется маме на мое поведение и отдаст игрушку только маме.
— Я не знала, что нельзя, — крикнула я, чуть не плача, в спину воспитательницы. — Я больше так не буду.
Вечером мама отдала мне клоуна и спросила устало:
— Почему я каждый вечер должна выслушивать жалобы на тебя? Неужели так сложно просто слушаться воспитателя?
Я не знала, как ответить. Ответ получался какой-то очень длинный, я не могла его сформулировать.
— Я больше так не буду, — сказала я, привычно растворяясь в чувстве вины.
— Меня уволят с работы. Мне постоянно жалуются на тебя, звонят из сада. Мне приходится отпрашиваться. Меня уволят, Оля, и нам нечего будет есть.
Я молчу. Я совсем не знаю, что говорить.
Мне казалось, что жить с мамой — это счастье, но пока это совсем не выглядело счастьем. Даже наоборот.
Никаких сказок, горошков, одеялок. Только рвота, злость и клоуны в лужах…
Во время тихого часа в саду полагалось спать или лежать с закрытыми глазами. Я послушно лежала, не спала.
Рядом со мной на своей кровати лежал хулиган и задира Петька, который все время подкалывал другого моего соседа — тихоню Антошку.
Антошка спал со специальной пеленкой, у него не получалось контролировать свою физиологию. Это было неизменным поводом для шуток Петьки. Вот и в тот день он довел Антошку до слез, потому что, дождавшись, когда воспитатель выйдет, на всю группу громко прошептал: «Антошка — коричневые трусы! Антошка — какашка». Другие дети смеялись. Антошка лежал рядом и горько плакал. И я плакала от обиды за него.
— Хватит! Хватит! Хватит! — не выдержала я, крикнула в Петьку зло, что есть силы.
Мой голос раздался в полной тишине, отскочил от стен.
— Савельева, встать!
Воспитательница нависла надо мной огромной скалой. Я сползла с кроватки. Она схватила меня за плечо и поволокла на выход. Завела в туалет и поставила в угол.
— Постой и подумай о том, как орать в тихий час на всю группу! А я пойду матери позвоню…
— Не надо, — заплакала я. — Пожалуйста, не надо… Пожалуйста, я больше так не буду, никогда не буду, не звоните маме…
— Я ушла звонить, — сказала она и вышла из туалета.
Я стояла в углу, босиком на холодном полу, в клетчатой, сшитой мне бабушкой пижамке и горько плакала…
Мама забрала меня пораньше. Ничего не сказала, смотрела с осуждением. Это было самое страшное — молчаливое осуждение. Отчуждение.
В тот день я легла спать пораньше, потому что настроения играть не было никакого. К полуночи выяснилось, что я вся горю. Выз
Показать больше
4 мс. назад
🌿 Пришло время для рекомендации от Озара из истории "И Поглотит Нас Морок"!
"Я долго думал, что посоветовать, чтобы увидеть твою улыбку. Что знаю я, волхв, слуга богов?
Но кое в чём всё-таки смыслю…
Когда долго живёшь рядом с лесом и водой, начинаешь понимать простые вещи. Не те, которые встречаются в книгах или речах мудрецов, а те, что телом узнаются. Без теорий.
Вот, например, ходить босиком. Не ради пользы. Просто чтобы снова почувствовать землю. Потому что, пока ты в обуви, ты всегда как будто немного в стороне: от травы, от сырой почвы, от утренней росы. А потом однажды пройдёшься по холодному мху без лаптей — и всё, назад не хочется.
И, конечно, вода.
Ты просто сидишь, смотришь, как она течёт, как рябит поверхность, и вдруг всё внутри начинает меняться. Муть оседает. Мысли распутываются. Вода очищает не только душу, но и то, что у тебя в голове.
Хотел ещё рассказать, как правильно делать яблочное вино, терпкое, немного медовое. Но, думаю, боги не одобрят. Им не понравится, что ты начнёшь варить своё счастье сам.
Так что просто сходи к реке. Разуйся. И помолчи.
Хотя бы раз в этом месяце. И... кто знает, может, мы повстречаемся где-то на берегу?"
😌 Что помогает вам расслабиться и насладиться тишиной? Делитесь своими способами в комментариях!
"Я долго думал, что посоветовать, чтобы увидеть твою улыбку. Что знаю я, волхв, слуга богов?
Но кое в чём всё-таки смыслю…
Когда долго живёшь рядом с лесом и водой, начинаешь понимать простые вещи. Не те, которые встречаются в книгах или речах мудрецов, а те, что телом узнаются. Без теорий.
Вот, например, ходить босиком. Не ради пользы. Просто чтобы снова почувствовать землю. Потому что, пока ты в обуви, ты всегда как будто немного в стороне: от травы, от сырой почвы, от утренней росы. А потом однажды пройдёшься по холодному мху без лаптей — и всё, назад не хочется.
И, конечно, вода.
Ты просто сидишь, смотришь, как она течёт, как рябит поверхность, и вдруг всё внутри начинает меняться. Муть оседает. Мысли распутываются. Вода очищает не только душу, но и то, что у тебя в голове.
Хотел ещё рассказать, как правильно делать яблочное вино, терпкое, немного медовое. Но, думаю, боги не одобрят. Им не понравится, что ты начнёшь варить своё счастье сам.
Так что просто сходи к реке. Разуйся. И помолчи.
Хотя бы раз в этом месяце. И... кто знает, может, мы повстречаемся где-то на берегу?"
😌 Что помогает вам расслабиться и насладиться тишиной? Делитесь своими способами в комментариях!
Показать больше
4 мс. назад
Лето в детстве не начинается с календаря. Оно начинается с первого раза, когда идёшь босиком по нагретому асфальту. Когда пахнет шлангом, поливом, мокрой пылью. Когда солнце не просто светит, а будто играет с тобой в догонялки.
Это время, когда день растягивается, как жвачка «Love is…», и ты не знаешь, где утро, а где вечер. Когда фрукты вкуснее, песни громче, а время — будто чужое, его никто не считает.
Лето в нулевых — это не про заграницы и отели. Это про местное мороженое, про карусель с облезшей краской, про сарай, который становится штабом. И если в голове ещё осталась хоть капля этой магии — значит, лето всё ещё живёт внутри.
Хочешь — запускай мыльные пузыри, хочешь — просто сиди на ступеньках. Главное — не забывай, как это чувствуется.
Это время, когда день растягивается, как жвачка «Love is…», и ты не знаешь, где утро, а где вечер. Когда фрукты вкуснее, песни громче, а время — будто чужое, его никто не считает.
Лето в нулевых — это не про заграницы и отели. Это про местное мороженое, про карусель с облезшей краской, про сарай, который становится штабом. И если в голове ещё осталась хоть капля этой магии — значит, лето всё ещё живёт внутри.
Хочешь — запускай мыльные пузыри, хочешь — просто сиди на ступеньках. Главное — не забывай, как это чувствуется.
Показать больше
4 мс. назад
На пляже пансионата «Шахтёр» в Тульской области молния ударила в мокрый песок у кромки воды, убив трёх человек. Как выяснилось, жертвы были босиком — электрический разряд прошёл по влажной поверхности.
Те, кто находился в пляжной обуви, например, в сланцах, избежали поражения током. По словам очевидцев, именно резиновая подошва спасла им жизнь. Этот трагический случай стал напоминанием о важности осторожности во время грозы.
Те, кто находился в пляжной обуви, например, в сланцах, избежали поражения током. По словам очевидцев, именно резиновая подошва спасла им жизнь. Этот трагический случай стал напоминанием о важности осторожности во время грозы.
Показать больше
4 мс. назад
Деньги в теле
Знаете ли вы, что наше тело —это магнит, способный притянуть все, что угодно?На карте тела человека «записано» все. Особенности личности, весь предыдущий жизненный опыт, психологические травмы и определенные тенденции дальнейшего развития.
На любую актуальную проблему тело отзывается напряжением, оно бывает хроническим или временным. Хроническое напряжение (блокировки) указывает на устойчивые поведенческие стереотипы человека. Временные — на внезапно возникшую и еще до конца не отработанную проблему (как оперативная память).
Есть ли в теле деньги? Конечно, есть.
Зон денег в теле четыре.Одна из них связана со способом получения денег, другая — с тем, как они уходят, третья — с накопительством, четвертая — с умением обращать деньги в богатство.
Первая зона денег — это шея. Оцените ее состояние. Можете ли вы свободно, без напряжения и хруста вертеть шеей и поворачивать голову по сторонам? Если да — то также легко вы можете увидеть разнообразные способы получения денег.
Шея для человека — это зона возможностей и свободы выбора! Свободная, подвижная, легкая незаблокированная шея говорит о том, что с выбором у вас все в порядке. Вы видите для себя множество вариантов развития событий и не усматриваете проблемы в изменении сценариев своей жизни. Легко принимаете как себя, так и других людей. Не имеете жестких ригидных установок. Легко идете на компромисс. Свободно выражаете свои мысли и чувства. Легко высказываете свое собственное мнение.
Свободная шея придает телу живость, а самому человеку быстроту реакции. Скорее всего, вы прирожденный руководитель, администратор или топ-менеджер, во всяком случае, с деньгами проблем быть не должно точно.
Люди с заблокированной шеей смотрят только прямо. Это взгляд подчиненного, офицера или солдата, это взгляд человека, нацеленного двигаться только вперед, игнорируя все новые «вводные» и помехи. Что может быть, действительно, оправдано на плацу, но никак не допустимо в легко и быстро меняющемся финансовом мире, где часто успех обеспечивается вовлеченностью человека в процесс и способностью быстро принимать решения.
Проанализируйте свои финансовые сценарии. Возможно, вы упрямы и недоверчивы, часто сопротивляетесь и в ответ встречаетесь с сопротивлением своих клиентов, если работаете с людьми. Не увлекаетесь ли вы чрезмерно одними и теми же технологиями? Не захватывает ли вас полностью одна финансовая схема, которую вы начинаете активно всем навязывать?
«Смотри туда — только туда», — как бы говорит ваше тело. Важно знать, что в телесно-психической структуре человека трудно отследить, что первично, а что вторично. Бывает, человек вначале закрепощает, буквально забивает собственное тело, а оно уже своим напряжением создает устойчивые психологические сценарии поведения, а бывает наоборот — психологическая травма или установка закрепляет напряжение в теле, а оно, в свою очередь, постоянно напоминает человеку об однажды пережитом негативном опыте и заставляет поступать стереотипно.
Второе - зона распределения денег. И это, конечно, руки. Не зря говорят — деньги утекают сквозь пальцы.
Представьте себе, что кто-то, неважно кто, протягивает вам купюру. Протяните руку и возьмите ее. Как вы это будете делать? Оцените, не возникло ли в руке напряжения, когда вы тянулись к воображаемой купюре. Если возникло, то где? В кисти? Значит, для вас имеет значение, как вам дают деньги, кто их дает, с какими словами. Вы придаете большое значение ритуальности получения денег. Не понравится, как дают, — можете отказаться даже от заработанного. Хорошо ли это? Не слишком ли много условностей и церемоний?
Напряжение появилось в предплечье? Вам трудно принимать решения по деньгам. Не туда и не сюда, как говорится. Вам трудно брать, трудно отдавать, трудно делать покупки и вкладывать деньги. Прежде чем решиться на что-то, вы десять раз подумаете и часто именно из-за этого оказываетесь в проигрыше. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» — вспоминайте об этом иногда, и деньги сами польются вам в руки.
Если напряжение появилось в плече, вам трудно пустить деньги в свою жизнь. Взять-то вы их можете, а вот дальше начинаются душевные терзания. Возможно, вы из тех, кто считает, что деньги — грязь, деньги развращают человека. Подсознательно вы дистанцируетесь от них. Деньги всегда стоят на пороге вашего дома, а вот в дом вы их не пускаете. Одумайтесь, ведь им может надоесть там стоять, и что вы будете делать тогда?
Как вы передаете деньги? Широким движением руки протягиваете развернутую купюру — вы щедрый и уверенный в себе человек. Держите купюру близко к себе и ждете пока человек сам протянет за ней руку — вы не уверены в том, что эти деньги стоит отдавать. Возможно, робки, не очень уверены в себе и тяжело расстаетесь с деньгами. Передаете купюру сложенной вдвое — если это случайность — ничего страшного. А вот если вы всегда складываете купюру, прежде чем ее отдать, то, возможно, вы бессознательно боитесь денег, ответственности за них и делаете все, чтобы их стало меньше. Сворачиваете купюру многократно и передаете, тесно сжав в кулачке, — почему вы так боитесь и стесняетесь себя, денег, способа их передачи? Достаете купюру, но не отдаете сразу, а предваряете передачу длинным монологом о чем-нибудь — подумайте, а почему вы так делаете? Возможно, вам доставляет удовольствие смотреть на неудобство собеседника; возможно, вы не уверены, что деньги надо отдать; а может, вам по жизни трудно даются решения и вы всегда чуть-чуть «тормозите», когда уже пора сделать шаг.
Третьей зоной денег является живот и таз. Не зря богатого человека всегда изображают этаким толстяком с большим животом. Но большой живот — это одновременно и знак того, что у человека много страхов. А страхи не позволяют нам свободно распоряжаться деньгами. Страх потерять благосостояние проявляется в жадности, а жадность в полноте. Так как же быть? Мягкий, но не полный, подтянутый аккуратный животик, свободные движения тазом, изящная походка, как у восточных танцовщиц и танцовщиков, свидетельствуют — перед нами человек, довольный жизнью, человек, умеющий радоваться и получать удовольствие от каждого мгновения, искушенный во всех плотских наслаждениях и не комплексующий в вопросах увеличения своего богатства. Поэтому, хотите денег, займитесь восточными танцами. Тем более что костюмы восточных див как будто специально предназначены для приманивания денег, так играют на солнце золотые украшения, а разве не монетами расшиты накидки и головные уборы?
Любопытно, что одна из зон неразумного накопительства — это печально известные галифе (на бедре, сзади). У людей жадных, особенно, жадных до чужих денег, галифе будь-те-нате. А у тех, кто легко расстается с деньгами и спокойно тратит их на других людей, — с этой частью тела все в порядке. Прямая логика: будете жадничать — придется разоряться на антицеллюлитные кремы и массажи, не будете — и крем не понадобится.
И, наконец, зона увеличения богатства — это ноги. Чем крепче ноги, тем легче человеку построить свое благосостояние. Дом, стабильный бизнес, крепкий доход, предметы роскоши. Все это принадлежность уже не денег, но богатства.
Чтобы удержать богатство, надо крепко стоять на ногах. Поэтому, если у вас слабые ноги, вы часто оступаетесь, подворачиваете стопы, у вас были случайные, нелепые переломы, у вас варикоз или любые другие болезни ног, все это указывает на то , что стабильности у вас нет, а, возможно вы ее боитесь.
Научитесь крепко стоять на ногах. Выработайте себе походку победителя. Ступайте на всю стопу, пружиня в коленях и перенося вес тела на опорную ногу. Перестаньте ходить на каблуках, пока не научитесь чувствовать опору под ногами. Летом чаще ходите босиком по земле. Укрепляйте ноги и устанавливайте утраченную связь с землей. И тогда вам легче будет создать материальную опору в жизни.
Знаете ли вы, что наше тело —это магнит, способный притянуть все, что угодно?На карте тела человека «записано» все. Особенности личности, весь предыдущий жизненный опыт, психологические травмы и определенные тенденции дальнейшего развития.
На любую актуальную проблему тело отзывается напряжением, оно бывает хроническим или временным. Хроническое напряжение (блокировки) указывает на устойчивые поведенческие стереотипы человека. Временные — на внезапно возникшую и еще до конца не отработанную проблему (как оперативная память).
Есть ли в теле деньги? Конечно, есть.
Зон денег в теле четыре.Одна из них связана со способом получения денег, другая — с тем, как они уходят, третья — с накопительством, четвертая — с умением обращать деньги в богатство.
Первая зона денег — это шея. Оцените ее состояние. Можете ли вы свободно, без напряжения и хруста вертеть шеей и поворачивать голову по сторонам? Если да — то также легко вы можете увидеть разнообразные способы получения денег.
Шея для человека — это зона возможностей и свободы выбора! Свободная, подвижная, легкая незаблокированная шея говорит о том, что с выбором у вас все в порядке. Вы видите для себя множество вариантов развития событий и не усматриваете проблемы в изменении сценариев своей жизни. Легко принимаете как себя, так и других людей. Не имеете жестких ригидных установок. Легко идете на компромисс. Свободно выражаете свои мысли и чувства. Легко высказываете свое собственное мнение.
Свободная шея придает телу живость, а самому человеку быстроту реакции. Скорее всего, вы прирожденный руководитель, администратор или топ-менеджер, во всяком случае, с деньгами проблем быть не должно точно.
Люди с заблокированной шеей смотрят только прямо. Это взгляд подчиненного, офицера или солдата, это взгляд человека, нацеленного двигаться только вперед, игнорируя все новые «вводные» и помехи. Что может быть, действительно, оправдано на плацу, но никак не допустимо в легко и быстро меняющемся финансовом мире, где часто успех обеспечивается вовлеченностью человека в процесс и способностью быстро принимать решения.
Проанализируйте свои финансовые сценарии. Возможно, вы упрямы и недоверчивы, часто сопротивляетесь и в ответ встречаетесь с сопротивлением своих клиентов, если работаете с людьми. Не увлекаетесь ли вы чрезмерно одними и теми же технологиями? Не захватывает ли вас полностью одна финансовая схема, которую вы начинаете активно всем навязывать?
«Смотри туда — только туда», — как бы говорит ваше тело. Важно знать, что в телесно-психической структуре человека трудно отследить, что первично, а что вторично. Бывает, человек вначале закрепощает, буквально забивает собственное тело, а оно уже своим напряжением создает устойчивые психологические сценарии поведения, а бывает наоборот — психологическая травма или установка закрепляет напряжение в теле, а оно, в свою очередь, постоянно напоминает человеку об однажды пережитом негативном опыте и заставляет поступать стереотипно.
Второе - зона распределения денег. И это, конечно, руки. Не зря говорят — деньги утекают сквозь пальцы.
Представьте себе, что кто-то, неважно кто, протягивает вам купюру. Протяните руку и возьмите ее. Как вы это будете делать? Оцените, не возникло ли в руке напряжения, когда вы тянулись к воображаемой купюре. Если возникло, то где? В кисти? Значит, для вас имеет значение, как вам дают деньги, кто их дает, с какими словами. Вы придаете большое значение ритуальности получения денег. Не понравится, как дают, — можете отказаться даже от заработанного. Хорошо ли это? Не слишком ли много условностей и церемоний?
Напряжение появилось в предплечье? Вам трудно принимать решения по деньгам. Не туда и не сюда, как говорится. Вам трудно брать, трудно отдавать, трудно делать покупки и вкладывать деньги. Прежде чем решиться на что-то, вы десять раз подумаете и часто именно из-за этого оказываетесь в проигрыше. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» — вспоминайте об этом иногда, и деньги сами польются вам в руки.
Если напряжение появилось в плече, вам трудно пустить деньги в свою жизнь. Взять-то вы их можете, а вот дальше начинаются душевные терзания. Возможно, вы из тех, кто считает, что деньги — грязь, деньги развращают человека. Подсознательно вы дистанцируетесь от них. Деньги всегда стоят на пороге вашего дома, а вот в дом вы их не пускаете. Одумайтесь, ведь им может надоесть там стоять, и что вы будете делать тогда?
Как вы передаете деньги? Широким движением руки протягиваете развернутую купюру — вы щедрый и уверенный в себе человек. Держите купюру близко к себе и ждете пока человек сам протянет за ней руку — вы не уверены в том, что эти деньги стоит отдавать. Возможно, робки, не очень уверены в себе и тяжело расстаетесь с деньгами. Передаете купюру сложенной вдвое — если это случайность — ничего страшного. А вот если вы всегда складываете купюру, прежде чем ее отдать, то, возможно, вы бессознательно боитесь денег, ответственности за них и делаете все, чтобы их стало меньше. Сворачиваете купюру многократно и передаете, тесно сжав в кулачке, — почему вы так боитесь и стесняетесь себя, денег, способа их передачи? Достаете купюру, но не отдаете сразу, а предваряете передачу длинным монологом о чем-нибудь — подумайте, а почему вы так делаете? Возможно, вам доставляет удовольствие смотреть на неудобство собеседника; возможно, вы не уверены, что деньги надо отдать; а может, вам по жизни трудно даются решения и вы всегда чуть-чуть «тормозите», когда уже пора сделать шаг.
Третьей зоной денег является живот и таз. Не зря богатого человека всегда изображают этаким толстяком с большим животом. Но большой живот — это одновременно и знак того, что у человека много страхов. А страхи не позволяют нам свободно распоряжаться деньгами. Страх потерять благосостояние проявляется в жадности, а жадность в полноте. Так как же быть? Мягкий, но не полный, подтянутый аккуратный животик, свободные движения тазом, изящная походка, как у восточных танцовщиц и танцовщиков, свидетельствуют — перед нами человек, довольный жизнью, человек, умеющий радоваться и получать удовольствие от каждого мгновения, искушенный во всех плотских наслаждениях и не комплексующий в вопросах увеличения своего богатства. Поэтому, хотите денег, займитесь восточными танцами. Тем более что костюмы восточных див как будто специально предназначены для приманивания денег, так играют на солнце золотые украшения, а разве не монетами расшиты накидки и головные уборы?
Любопытно, что одна из зон неразумного накопительства — это печально известные галифе (на бедре, сзади). У людей жадных, особенно, жадных до чужих денег, галифе будь-те-нате. А у тех, кто легко расстается с деньгами и спокойно тратит их на других людей, — с этой частью тела все в порядке. Прямая логика: будете жадничать — придется разоряться на антицеллюлитные кремы и массажи, не будете — и крем не понадобится.
И, наконец, зона увеличения богатства — это ноги. Чем крепче ноги, тем легче человеку построить свое благосостояние. Дом, стабильный бизнес, крепкий доход, предметы роскоши. Все это принадлежность уже не денег, но богатства.
Чтобы удержать богатство, надо крепко стоять на ногах. Поэтому, если у вас слабые ноги, вы часто оступаетесь, подворачиваете стопы, у вас были случайные, нелепые переломы, у вас варикоз или любые другие болезни ног, все это указывает на то , что стабильности у вас нет, а, возможно вы ее боитесь.
Научитесь крепко стоять на ногах. Выработайте себе походку победителя. Ступайте на всю стопу, пружиня в коленях и перенося вес тела на опорную ногу. Перестаньте ходить на каблуках, пока не научитесь чувствовать опору под ногами. Летом чаще ходите босиком по земле. Укрепляйте ноги и устанавливайте утраченную связь с землей. И тогда вам легче будет создать материальную опору в жизни.
Показать больше
4 мс. назад
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Сергей Есенин
1922
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Сергей Есенин
1922
Показать больше
8 мс. назад
8 мс. назад
8 мс. назад
8 мс. назад
❤️ Папина дочка. Кого мы представляем? Заласканную девочку, которая ездит на папиной шее в прямом смысле в детстве, в переносном — став постарше. Саша, младшая дочь Льва Николаевича Толстого, в такой формат не вписывалась никогда…
Не ко двору
Классик был плодовит не только на прославившие его сочинения, к 1884 году в семье уже насчитывалось бы одиннадцать детей, если бы трое не умерли во младенчестве. Супруга Софья Андреевна не скрывала: она смертельно устала. Носить, рожать, растить. Сперва она пыталась избавиться от нежеланного бремени бабушкиными методами, потом решалась обратиться к врачам, что в те времена практиковалось нечасто. Сколько Бог дал, стольким даруй жизнь. Пришлось даровать, поскольку никто помочь отчаявшейся женщине не смог. 17 июня, накануне родов, её супруг, обуреваемый мыслями о судьбах мира и измученный её придирками по поводу и без, ушёл из дома куда глаза глядят. Он давно уж мечтал отправиться босиком по Руси, жить под открытым небом, зарабатывать кусок хлеба простым трудом…
В тот раз, опомнившись, он вернулся в Ясную Поляну посреди ночи, аккурат к рождению дочери Александры. Однако кое-как примириться супруги смогли лишь спустя четыре года с появлением сына Ванечки/ставшего любимцем всей семьи. Увы, этого белокурого ангела вскоре забрали на Небеса. Мать, обезумев от горя, срывалась на маленькой Саше: «Ванечке не дал Бог жить, а тебя мать и рожать не хотела, а ты вон какая выросла!» Выросла Александра большой, грузной, некрасивой. Вечно занятой отец не обращал на неё внимания, братья уже выросли и жили отдельно, гувернантки хором твердили, что младшая из барышень Толстых несносная девчонка, ей лишь бы на лошадях скакать! Лишь сестра Татьяна уделяла.ей внимание и ласку, но в 1898 году она вышла замуж, и 14-летняя Саша оказалась предоставлена сама себе в большом родительском доме…
Правая рука
Даниил Хармс, славившийся острым языком, по Льву Николаевичу особенно любил «пройтись»: «Сонечка, ангелочек, сделай мне тюрьку». Она возражает: «Лёвушка, ты же видишь, я «Войну и мир» переписываю». «А-а-а, — возопил он, -так я и знал, что тебе мой литературный фимиам дороже моего «Я». И костыль задрожал в его судорожной руке». Это, разумеется, литературный анекдот, но в отсутствие компьютеров и ксероксов свеженаписанные рукописи,полные помарок и опечаток, на которые Гений просто не обращал внимания, переписывать набело, действительно, долгими годами брака приходилось Софье Андреевне. В один прекрасный день эстафету переняла Александра. Дальше больше — вот младшая дочка уже пишет от имени отца ответы на письма многочисленных поклонников и последователей, а вот Сашенька уже папенькин лучший друг.
Как произошло это превращение? Никакого чуда, дочь буквально выслужила у отца его драгоценное внимание кропотливым трудом! Научилась работать на модной новинке — печатной машинке «ремингтон» и сидела за ней ночи напролёт, лишь бы только угодить ему. А надо сказать, почерк у Льва Николаевича был похлеще докторского, он сам порой не мог разобрать, что начеркал. А Саша могла всегда! Рано утром этот добровольный секретарь приносила отцу чистовики, он ласково ей улыбался и благодарил, и она забывала об усталости, чувствовала себя в полном восторге!
Именно Сашу, и только её, Толстой посвятил в давно задуманное — покинуть Ясную Поляну, дом,её мать, всё и всех, начать новую светлую жизнь… Она даже помогала ему собираться в ту ставшую знаменитой осеннюю ночь 1910 года! Да что там, скажи он ей спрыгнуть с моста — ни мгновения не помедлила бы… Она же вскоре сидела подле него, когда он умирал. Последние семь дней и ночей с Ним она запомнит навсегда. Любви чище и сильнее ей не было дано испытать.
То ли ты сделала?
«Человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любовности увеличивается и растёт, как всё живое, никогда не прекращаясь…» Так писал Лев Толстой задолго до кончины, так и произошло с его дочерью Александрой. Каждый свой поступок она оценивала с точки зрения: то ли я сделала, что хотел бы отец? Ей было 30, когда грянула Первая мировая. Ни минуты не беспокоилась она о том,что не создала собственной семьи, не родила детей, как её ровесницы. Сердце болело о другом — надо на фронт. Беда. Собрала букетик полевых цветов, положила на могилу отцу, попрощалась мысленно и уехала. Мать пыталась остановить, образумить, да куда там -вся в отца, упрямая толстовская порода! С годами Александра и внешне всё больше на него походила: плотного телосложения, с высоким лбом, толстым, чисто отцовским носом, под пенсне -серые пытливые глаза, его глаза. Скольких она спасла в той кровавой мясорубке — не сосчитать. И раны врачевала, и организовывала санитарные отряды и передвижные госпитали, школы и столовые для оставшихся сиротами детей. Отец гордился бы. И не потому, что дочь наградили тремя Георгиевскими крестами и даже удостоили звания полковника, а потому, что души спасала, своей не щадя…
Вернулась Александра с войны уже в другую страну, большевистскую, всё разгромлено, разграблено, нужно было спасать наследие отца. Она превратила родную усадьбу в музей Толстого, возглавила колоссальный проект — подготовку к печати первого собрания сочинения писателя. Выпустила более 90 томов текстов величайшего классика, а купить не могла ни одного экземпляра, жила, как нищенка, все наряды — та латаная одежонка, что на ней изо дня в день…
Отец считал важнейшим делом образование крестьянских детей, и Александра продолжила его дело, скотный двор её силами превратился в уютную школу. Только вот всё чаще наведывались проверяющие — как ведётся антирелигиозное воспитание? А как она могла его вести, будучи глубоко верующим человеком? Разве товарищи не знают, что её отец,хотя и «зеркало русской революции», но верил в Христа?!
Впрочем, два месяца в тюрьме на Лубянке и полгода в Новоспасском лагере Александра провела не за религиозные убеждения, а почти случайно. Для неё же с каждым днём становилось яснее — всё закономерно, в Советской России ей места нет.
В 1929 году Толстая уехала в Японию читать лекции об отце. И хотя истовых «толстовцев» в Стране восходящего солнца она встретила немало, слишком экзотической там была жизнь для русской женщины. Власти требовали возвращения в Советский Союз, Александра Львовна эмигрировала в Америку. Больше Ясную Поляну, родной дом, могилу отца она не увидит никогда.
На той стороне
Ей 47 лет, она в чужой стране, без денег, без связей. Спасибо терпению гувернанток, язык знала в совершенстве. Спасибо отцу, который своим примером показал, когда пахал землю с крестьянами, — нужно уметь трудиться не только умственно, но и физически. Помогли и навыки работы на конюшне, где она пропадала в детстве. На клочке земли Александра мал по малу создала ферму, работала от зари до -зари. Но душа искала и иного. Толстой удалось найти товарищей и основать в США Толстовский благотворительный фонд. Он помогал беженцам, эмигрантам. сиротам, всем русским, которые, как и сама Толстая, оказались дома не у дел.
Неподалёку от Нью-Йорка Александра Львовна с присущей ей фамильной энергией построила детский дом, больницу, интернат для престарелых, библиотеку, церковь. Горько было узнать, что на родине её детище именовали «разбойничьим гнездом », газеты пестрели в адрес Толстой обвинениями в измене и шпионаже. Официально Александру Львовну Толстую реабилитировали только в 1994 году. Ей об этом не суждено было узнать, она скончалась в сентябре 1979 года в возрасте 95 лет. Крепкий отцовский стержень держал её на земле, несмотря на все тяготы и лишения. И он же заставлял её писать. О своей судьбе, вместившей несколько разных жизней, главная среди которых — жизнь с Отцом.
Не ко двору
Классик был плодовит не только на прославившие его сочинения, к 1884 году в семье уже насчитывалось бы одиннадцать детей, если бы трое не умерли во младенчестве. Супруга Софья Андреевна не скрывала: она смертельно устала. Носить, рожать, растить. Сперва она пыталась избавиться от нежеланного бремени бабушкиными методами, потом решалась обратиться к врачам, что в те времена практиковалось нечасто. Сколько Бог дал, стольким даруй жизнь. Пришлось даровать, поскольку никто помочь отчаявшейся женщине не смог. 17 июня, накануне родов, её супруг, обуреваемый мыслями о судьбах мира и измученный её придирками по поводу и без, ушёл из дома куда глаза глядят. Он давно уж мечтал отправиться босиком по Руси, жить под открытым небом, зарабатывать кусок хлеба простым трудом…
В тот раз, опомнившись, он вернулся в Ясную Поляну посреди ночи, аккурат к рождению дочери Александры. Однако кое-как примириться супруги смогли лишь спустя четыре года с появлением сына Ванечки/ставшего любимцем всей семьи. Увы, этого белокурого ангела вскоре забрали на Небеса. Мать, обезумев от горя, срывалась на маленькой Саше: «Ванечке не дал Бог жить, а тебя мать и рожать не хотела, а ты вон какая выросла!» Выросла Александра большой, грузной, некрасивой. Вечно занятой отец не обращал на неё внимания, братья уже выросли и жили отдельно, гувернантки хором твердили, что младшая из барышень Толстых несносная девчонка, ей лишь бы на лошадях скакать! Лишь сестра Татьяна уделяла.ей внимание и ласку, но в 1898 году она вышла замуж, и 14-летняя Саша оказалась предоставлена сама себе в большом родительском доме…
Правая рука
Даниил Хармс, славившийся острым языком, по Льву Николаевичу особенно любил «пройтись»: «Сонечка, ангелочек, сделай мне тюрьку». Она возражает: «Лёвушка, ты же видишь, я «Войну и мир» переписываю». «А-а-а, — возопил он, -так я и знал, что тебе мой литературный фимиам дороже моего «Я». И костыль задрожал в его судорожной руке». Это, разумеется, литературный анекдот, но в отсутствие компьютеров и ксероксов свеженаписанные рукописи,полные помарок и опечаток, на которые Гений просто не обращал внимания, переписывать набело, действительно, долгими годами брака приходилось Софье Андреевне. В один прекрасный день эстафету переняла Александра. Дальше больше — вот младшая дочка уже пишет от имени отца ответы на письма многочисленных поклонников и последователей, а вот Сашенька уже папенькин лучший друг.
Как произошло это превращение? Никакого чуда, дочь буквально выслужила у отца его драгоценное внимание кропотливым трудом! Научилась работать на модной новинке — печатной машинке «ремингтон» и сидела за ней ночи напролёт, лишь бы только угодить ему. А надо сказать, почерк у Льва Николаевича был похлеще докторского, он сам порой не мог разобрать, что начеркал. А Саша могла всегда! Рано утром этот добровольный секретарь приносила отцу чистовики, он ласково ей улыбался и благодарил, и она забывала об усталости, чувствовала себя в полном восторге!
Именно Сашу, и только её, Толстой посвятил в давно задуманное — покинуть Ясную Поляну, дом,её мать, всё и всех, начать новую светлую жизнь… Она даже помогала ему собираться в ту ставшую знаменитой осеннюю ночь 1910 года! Да что там, скажи он ей спрыгнуть с моста — ни мгновения не помедлила бы… Она же вскоре сидела подле него, когда он умирал. Последние семь дней и ночей с Ним она запомнит навсегда. Любви чище и сильнее ей не было дано испытать.
То ли ты сделала?
«Человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любовности увеличивается и растёт, как всё живое, никогда не прекращаясь…» Так писал Лев Толстой задолго до кончины, так и произошло с его дочерью Александрой. Каждый свой поступок она оценивала с точки зрения: то ли я сделала, что хотел бы отец? Ей было 30, когда грянула Первая мировая. Ни минуты не беспокоилась она о том,что не создала собственной семьи, не родила детей, как её ровесницы. Сердце болело о другом — надо на фронт. Беда. Собрала букетик полевых цветов, положила на могилу отцу, попрощалась мысленно и уехала. Мать пыталась остановить, образумить, да куда там -вся в отца, упрямая толстовская порода! С годами Александра и внешне всё больше на него походила: плотного телосложения, с высоким лбом, толстым, чисто отцовским носом, под пенсне -серые пытливые глаза, его глаза. Скольких она спасла в той кровавой мясорубке — не сосчитать. И раны врачевала, и организовывала санитарные отряды и передвижные госпитали, школы и столовые для оставшихся сиротами детей. Отец гордился бы. И не потому, что дочь наградили тремя Георгиевскими крестами и даже удостоили звания полковника, а потому, что души спасала, своей не щадя…
Вернулась Александра с войны уже в другую страну, большевистскую, всё разгромлено, разграблено, нужно было спасать наследие отца. Она превратила родную усадьбу в музей Толстого, возглавила колоссальный проект — подготовку к печати первого собрания сочинения писателя. Выпустила более 90 томов текстов величайшего классика, а купить не могла ни одного экземпляра, жила, как нищенка, все наряды — та латаная одежонка, что на ней изо дня в день…
Отец считал важнейшим делом образование крестьянских детей, и Александра продолжила его дело, скотный двор её силами превратился в уютную школу. Только вот всё чаще наведывались проверяющие — как ведётся антирелигиозное воспитание? А как она могла его вести, будучи глубоко верующим человеком? Разве товарищи не знают, что её отец,хотя и «зеркало русской революции», но верил в Христа?!
Впрочем, два месяца в тюрьме на Лубянке и полгода в Новоспасском лагере Александра провела не за религиозные убеждения, а почти случайно. Для неё же с каждым днём становилось яснее — всё закономерно, в Советской России ей места нет.
В 1929 году Толстая уехала в Японию читать лекции об отце. И хотя истовых «толстовцев» в Стране восходящего солнца она встретила немало, слишком экзотической там была жизнь для русской женщины. Власти требовали возвращения в Советский Союз, Александра Львовна эмигрировала в Америку. Больше Ясную Поляну, родной дом, могилу отца она не увидит никогда.
На той стороне
Ей 47 лет, она в чужой стране, без денег, без связей. Спасибо терпению гувернанток, язык знала в совершенстве. Спасибо отцу, который своим примером показал, когда пахал землю с крестьянами, — нужно уметь трудиться не только умственно, но и физически. Помогли и навыки работы на конюшне, где она пропадала в детстве. На клочке земли Александра мал по малу создала ферму, работала от зари до -зари. Но душа искала и иного. Толстой удалось найти товарищей и основать в США Толстовский благотворительный фонд. Он помогал беженцам, эмигрантам. сиротам, всем русским, которые, как и сама Толстая, оказались дома не у дел.
Неподалёку от Нью-Йорка Александра Львовна с присущей ей фамильной энергией построила детский дом, больницу, интернат для престарелых, библиотеку, церковь. Горько было узнать, что на родине её детище именовали «разбойничьим гнездом », газеты пестрели в адрес Толстой обвинениями в измене и шпионаже. Официально Александру Львовну Толстую реабилитировали только в 1994 году. Ей об этом не суждено было узнать, она скончалась в сентябре 1979 года в возрасте 95 лет. Крепкий отцовский стержень держал её на земле, несмотря на все тяготы и лишения. И он же заставлял её писать. О своей судьбе, вместившей несколько разных жизней, главная среди которых — жизнь с Отцом.
Показать больше
8 мс. назад
При финансовой поддержке
Memes Admin
4 мс. назад