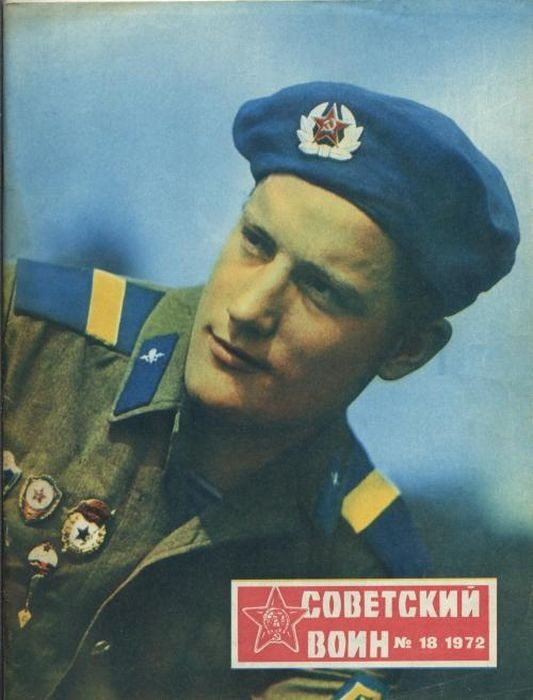19 дн. назад
С днём ВДВ, крылатая пехота!
Днём рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение из 12 человек.
Мы поздравляем с праздником всех, кто служил в воздушно-десантных войсках. Полного купола, чистого неба и мягкого приземления!
Днём рождения воздушно-десантных войск считают 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые на парашютах десантировалось небольшое подразделение из 12 человек.
Мы поздравляем с праздником всех, кто служил в воздушно-десантных войсках. Полного купола, чистого неба и мягкого приземления!
Показать больше
23 дн. назад
Эта странная и страшная война
ДВА РУССКИХ офицера — Юрий Лобанов и Владислав Глебов, как и сотни других ротных, взводных, комбатов, не сделали на чеченской войне карьеры. Не снискали по большому счету и славы. Бессчетное количество раз рискуя собой и теряя товарищей, они не знали, что все это окажется, по сути, напрасным. Нашей армии так и не дали тогда победить. Они были преданны, но были преданы, — кратко сказали бы в древней Лаконике. Но почему, вспоминая прожитое и находя слова для рассказа, они по-прежнему вопреки всему не считают ввод армии в Чечню ненужным, а сожалеют скорее о другом?
Первая беда
1994 год. В начале декабря 8-й армейский гвардейский корпус разгружался в Кизляре. Должность “замполита” разведбата корпуса тогда старший лейтенант, а ныне майор Владислав Глебов принял буквально за пять дней до сборов.
8 декабря, вспоминает Владислав, комкор построил офицеров. Сказал прямо: это война. И попросил определиться, кто идет с корпусом дальше. Немногочисленных отказников заменили и пошли вперед, к черту в пасть.
Переправились через Сунжу, провели боевое слаживание и наконец выдвинулись к станице Петропавловская.
Бронегруппа из двух БТРов и танка, в которой был и Глебов с комбатом майором Дмитрием Гребениченко, вышла на небольшую высоту невдалеке от станицы. До наших — километра четыре, до села — вдвое меньше. Окопались, стали наблюдать. Едва связались по рации со своими, боевики тут же влезли в эфир.
— Русские, убирайтесь домой, пока мы не отрезали вам... — посыпались изощренные угрозы.
Разведчики испытали шок. Никто и подумать не мог, что чеченцы будут работать на перехват.
Опустилась ночь. А с ней пришла и первая беда. От снайперской пули погиб сержант Антонов. Дыхание войны становилось все ближе.
В бинокли увидели, как более двух десятков чеченских танков, БМП, БТРов, переползая через мост
ПЕРЕГОВОРЫ заместителя комкора полковника Виктора Скопенко со старейшинами о беспрепятственном проходе войск по краю станицы успехом не увенчались. Более того, один из чеченцев попытался ударить полковника ножом. Удар принял на себя находившийся рядом капитан, клинок скользнул по его бронежилету. Столкновение стало неизбежным.
Разведчики, отправившиеся к мосту, вовремя заметили, как его минируют боевики. Потом, когда те уйдут, разведчикам удастся перекусить провод и спасти переправу.
Основные силы батальона — человек восемьдесят в белых маскхалатах, спешившись, под покровом ночи стали скрытно пробираться к селу. Метров за триста от станицы их обнаружили и обстреляли. Начался бой. Разведчиков поддержали огнем танки и БТРы. Чуть позже на прямую наводку вышли и несколько гаубиц. Окраина села покрылась густыми клубами дыма. Однако окончательно подавить боевиков удалось только к следующему утру.
— Конечно, можно было накрыть село “Градом” и разом решить все проблемы, — вспоминает Глебов, — но в селе-то мирные жители, которыми боевики, по сути, прикрывались как щитом. Вот и приходилось ювелирно вести огонь, только по огневым точкам...
Задача разведбатом была выполнена. Раненых в этом “гуманном” бою оказалось, конечно, немало. Погибший один. Старшина роты старший прапорщик Виктор Пономарев. Герой России посмертно. Когда в разгар боя по тылам разведбата вдруг пронесся невесть откуда взявшийся “уазик”, из которого полоснула автоматная очередь, Виктор Пономарев закрыл собой комкора...
С кем воюем?
31 декабря 1994-го, когда страна готовилась встречать Новый год, наши войска входили в Грозный.
— Расчет был на внезапность и темноту, — вспоминает “замполит” разведбата. — До этого столько тренировались ездить с выключенными фарами, не сбивая колонны.
Полтора десятка БТРов разведбата неслись к центру города. Параллельно шли и другие. Увидев метрах в шестистах впереди движущиеся навстречу танки, комбат принимает решение свернуть и идти соседней улицей — наших в Грозном тогда еще не было. Обнаружив, что ушли далеко от основных сил, окопались. В городе это выглядело так: БТРы прижались к двум предварительно прочесанным пятиэтажкам по обе стороны дороги. Разведчики рассредоточились по пустым квартирам и изготовились к бою.
...Больничный комплекс штурмовали отчаянно. Взяли, закрепились, перешли к обороне. А несколькими днями позже в штаб корпуса, располагавшийся тогда на консервном заводе, привезли около двух десятков побывавших в плену наших солдат. Их всех кастрировали и... отпустили — для устрашения.
Третьего января Глебова ранило. Ему повезло. Во-первых, чудом удалось сохранить ногу, во-вторых, не попал в самые жестокие бои с большими потерями. Приехав из госпиталя домой в Волгоград, Глебов, передвигаясь еще на костылях, похоронил не один десяток товарищей. Вместе с гробами и ранеными из Чечни в город потянулись беженцы. И каждый — со своей искалеченной судьбой. Женщина-беженка на похоронах начальника штаба полка разрыдалась: что ж вы, миленькие, раньше-то не приходили, мы вас так ждали! Ее вместе со старухой матерью боевики изнасиловали, а потом выкинули из квартиры. Схоронив не выдержавшую издевательств мать, она прибилась к военным. Куда ж ей было еще идти?!
Без стройных колонн и победных маршей
ДЛЯ МАЙОРА, а тогда старшего лейтенанта Юрия Лобанова война началась в середине января. Полк, в котором довелось воевать Лобанову, сначала сам доукомплектовывал своими людьми другие части, а когда пришла его очередь воевать, также собирал с миру по нитке.
Принял он должность замкомбата. Своих в батальоне оказалось аж два офицера. Солдаты и вовсе были из частей Дальневосточного военного округа. Первое и последнее боевое слаживание провели, как и многие тогда, под Толстым-Юртом.
...Середина января. Батальон получает задачу захватить несколько господствующих высот по горному хребту, что на южной окраине Грозного. Руководивший операцией замкомандира полка подполковник Кононов одну роту оставил в резерве. Остальные, дождавшись ночи, спешились и группами, маскируясь в густых зарослях горной колючки, выдвинулись к своим высоткам.
Группа старшего лейтенанта Лобанова, ведомая знавшими местность спецназовцами-десантниками, вышла к высоте 420.0. “Духовские” окопчики на ней были еще тепленькими — повсюду валялись окурки. Двадцать человек остаются с Лобановым, остальные идут дальше. Перед этим ротный по рации докладывает открытым текстом — дошли.
— “Ветер”, “Ветер”, повторите ваши координаты, — вдруг слышится в эфире.
— Не завидуем вам, ребята, “чехи” вас засекли, — кинули на прощание десантники.
Замкомбата Лобанов приказывает занять круговую оборону. Сам же со старшим лейтенантом-артиллеристом и одним солдатом решает пробраться на тригопункт — выше не бывает. Риск, конечно, но откуда лучше увидишь позиции боевиков? В окопах же с солдатами останутся два офицера.
...Тригопункт. Несмотря на ночь, все позиции — и свои, и чужие — как на ладони. Под горой невдалеке от села чеченские орудия, танки. Лобанов со старшим лейтенантом Савицким спешат нанести их на карту. Вскоре из “зеленки” по ним начинает бить автомат, затем еще несколько... Огонь такой плотный, что все трое кубарем катятся по крутому склону.
Оказавшись в спасительных зарослях, залегли. Чеченцы, их больше двадцати, ищут их.
Вот один из боевиков спускается в их сторону. Юрию Лобанову казалось, что чувствует его дыхание. Еще шаг, — молнией мелькнула мысль, — и стреляю. Но тут дудаевца окликают. Можно перевести дух.
— А у меня сегодня день рождения. Глупо погибать в такой день, правда? — прерывая тишину, шепчет лежащий слева от Лобанова солдат.
— Сколько?
— Двадцать три.
Юрий отсчитывает двадцать три патрона.
— Извини, больше подарить нечего...
Ожидание продолжается. Боевики, словно чувствуя их присутствие, не уходят. Издалека доносится стрельба. Не иначе, как приняла бой основная группа. Бой идет и где-то справа.
По тригопункту начинает молотить наша артиллерия. “Вот глупо будет, если от своих...” — думает Лобанов. Видит, как рядом с Савицким падает осколок и тот — сегодня об этом смешно вспоминать — прикрывает голову картой. И тут Лобанову показалось, что его ранило в ногу. Нет, слава Богу, это лишь ударил отброшенный взрывом камень.
...Уже потом выяснится, что той ночью боевики выбьют батальонные группы почти со всех занятых ими высоток. Наши, не выдержав напряжения первого боя, будут порой беспорядочно отступать вниз. От верной гибели всех спасет только оставленный подполковником Кононовым резерв. Когда все “бээмпэшки” и три приданных танка выйдут на прямую наводку и поддержат наших огнем, чеченцы, забыв про отступающих, попытаются поджечь бронетехнику. Наверное, им за нее больше платили...
Трусость и доблесть
СВЕТАЛО. Пролежав в ожидании своей участи несколько часов, все трое наконец решают: будь что будет — идем, а вернее, бежим в психическую атаку.
Рассредоточились метров на пятнадцать друг от друга — и бегом вверх, назад к тригопункту! Добежали. Но там никого. Пытаясь добраться до основной группы, прошли по тылам дудаевцев километров пятнадцать. Когда все-таки добрались до окопов, в них нашли лишь расщепленный автомат, окровавленные бинты, распотрошенные солдатские вещмешки да разбросанные галеты из сухпайков...
Позже они узнают, что едва начнется бой, два оставшихся офицера бросят солдат и позорно сбегут.
Командир полка в ярости пригрозит отдать их под суд, но дело замнут. У одного папа окажется генералом украинской армии. Короче, уволят их.
Трусость и доблесть на войне всегда рядом.
Их солдаты, не получив команды отходить, судя по обилию гильз, будут сражаться до последнего, около часа отстреливались от атакующих дудаевцев. Ранеными, они попадут в плен. Спустя еще два месяца уже другой полк наткнется на их трупы на окраине села. Все со следами пыток — поломанными ногами и руками и добитые в голову...
Лобанов же с Савицким и Лаврентьевым дойдут-таки до своих, в целости и сохранности доставив карту.
— Ты, наверное, пехота, напутал что-то, мои ребята все излазили, нет там никакой артиллерии, — скажет офицер-десантник, спешно передирая разведданные в свою карту.
— Да ладно выделываться, сам в десанте служил. А ребята твои, в
ДВА РУССКИХ офицера — Юрий Лобанов и Владислав Глебов, как и сотни других ротных, взводных, комбатов, не сделали на чеченской войне карьеры. Не снискали по большому счету и славы. Бессчетное количество раз рискуя собой и теряя товарищей, они не знали, что все это окажется, по сути, напрасным. Нашей армии так и не дали тогда победить. Они были преданны, но были преданы, — кратко сказали бы в древней Лаконике. Но почему, вспоминая прожитое и находя слова для рассказа, они по-прежнему вопреки всему не считают ввод армии в Чечню ненужным, а сожалеют скорее о другом?
Первая беда
1994 год. В начале декабря 8-й армейский гвардейский корпус разгружался в Кизляре. Должность “замполита” разведбата корпуса тогда старший лейтенант, а ныне майор Владислав Глебов принял буквально за пять дней до сборов.
8 декабря, вспоминает Владислав, комкор построил офицеров. Сказал прямо: это война. И попросил определиться, кто идет с корпусом дальше. Немногочисленных отказников заменили и пошли вперед, к черту в пасть.
Переправились через Сунжу, провели боевое слаживание и наконец выдвинулись к станице Петропавловская.
Бронегруппа из двух БТРов и танка, в которой был и Глебов с комбатом майором Дмитрием Гребениченко, вышла на небольшую высоту невдалеке от станицы. До наших — километра четыре, до села — вдвое меньше. Окопались, стали наблюдать. Едва связались по рации со своими, боевики тут же влезли в эфир.
— Русские, убирайтесь домой, пока мы не отрезали вам... — посыпались изощренные угрозы.
Разведчики испытали шок. Никто и подумать не мог, что чеченцы будут работать на перехват.
Опустилась ночь. А с ней пришла и первая беда. От снайперской пули погиб сержант Антонов. Дыхание войны становилось все ближе.
В бинокли увидели, как более двух десятков чеченских танков, БМП, БТРов, переползая через мост
ПЕРЕГОВОРЫ заместителя комкора полковника Виктора Скопенко со старейшинами о беспрепятственном проходе войск по краю станицы успехом не увенчались. Более того, один из чеченцев попытался ударить полковника ножом. Удар принял на себя находившийся рядом капитан, клинок скользнул по его бронежилету. Столкновение стало неизбежным.
Разведчики, отправившиеся к мосту, вовремя заметили, как его минируют боевики. Потом, когда те уйдут, разведчикам удастся перекусить провод и спасти переправу.
Основные силы батальона — человек восемьдесят в белых маскхалатах, спешившись, под покровом ночи стали скрытно пробираться к селу. Метров за триста от станицы их обнаружили и обстреляли. Начался бой. Разведчиков поддержали огнем танки и БТРы. Чуть позже на прямую наводку вышли и несколько гаубиц. Окраина села покрылась густыми клубами дыма. Однако окончательно подавить боевиков удалось только к следующему утру.
— Конечно, можно было накрыть село “Градом” и разом решить все проблемы, — вспоминает Глебов, — но в селе-то мирные жители, которыми боевики, по сути, прикрывались как щитом. Вот и приходилось ювелирно вести огонь, только по огневым точкам...
Задача разведбатом была выполнена. Раненых в этом “гуманном” бою оказалось, конечно, немало. Погибший один. Старшина роты старший прапорщик Виктор Пономарев. Герой России посмертно. Когда в разгар боя по тылам разведбата вдруг пронесся невесть откуда взявшийся “уазик”, из которого полоснула автоматная очередь, Виктор Пономарев закрыл собой комкора...
С кем воюем?
31 декабря 1994-го, когда страна готовилась встречать Новый год, наши войска входили в Грозный.
— Расчет был на внезапность и темноту, — вспоминает “замполит” разведбата. — До этого столько тренировались ездить с выключенными фарами, не сбивая колонны.
Полтора десятка БТРов разведбата неслись к центру города. Параллельно шли и другие. Увидев метрах в шестистах впереди движущиеся навстречу танки, комбат принимает решение свернуть и идти соседней улицей — наших в Грозном тогда еще не было. Обнаружив, что ушли далеко от основных сил, окопались. В городе это выглядело так: БТРы прижались к двум предварительно прочесанным пятиэтажкам по обе стороны дороги. Разведчики рассредоточились по пустым квартирам и изготовились к бою.
...Больничный комплекс штурмовали отчаянно. Взяли, закрепились, перешли к обороне. А несколькими днями позже в штаб корпуса, располагавшийся тогда на консервном заводе, привезли около двух десятков побывавших в плену наших солдат. Их всех кастрировали и... отпустили — для устрашения.
Третьего января Глебова ранило. Ему повезло. Во-первых, чудом удалось сохранить ногу, во-вторых, не попал в самые жестокие бои с большими потерями. Приехав из госпиталя домой в Волгоград, Глебов, передвигаясь еще на костылях, похоронил не один десяток товарищей. Вместе с гробами и ранеными из Чечни в город потянулись беженцы. И каждый — со своей искалеченной судьбой. Женщина-беженка на похоронах начальника штаба полка разрыдалась: что ж вы, миленькие, раньше-то не приходили, мы вас так ждали! Ее вместе со старухой матерью боевики изнасиловали, а потом выкинули из квартиры. Схоронив не выдержавшую издевательств мать, она прибилась к военным. Куда ж ей было еще идти?!
Без стройных колонн и победных маршей
ДЛЯ МАЙОРА, а тогда старшего лейтенанта Юрия Лобанова война началась в середине января. Полк, в котором довелось воевать Лобанову, сначала сам доукомплектовывал своими людьми другие части, а когда пришла его очередь воевать, также собирал с миру по нитке.
Принял он должность замкомбата. Своих в батальоне оказалось аж два офицера. Солдаты и вовсе были из частей Дальневосточного военного округа. Первое и последнее боевое слаживание провели, как и многие тогда, под Толстым-Юртом.
...Середина января. Батальон получает задачу захватить несколько господствующих высот по горному хребту, что на южной окраине Грозного. Руководивший операцией замкомандира полка подполковник Кононов одну роту оставил в резерве. Остальные, дождавшись ночи, спешились и группами, маскируясь в густых зарослях горной колючки, выдвинулись к своим высоткам.
Группа старшего лейтенанта Лобанова, ведомая знавшими местность спецназовцами-десантниками, вышла к высоте 420.0. “Духовские” окопчики на ней были еще тепленькими — повсюду валялись окурки. Двадцать человек остаются с Лобановым, остальные идут дальше. Перед этим ротный по рации докладывает открытым текстом — дошли.
— “Ветер”, “Ветер”, повторите ваши координаты, — вдруг слышится в эфире.
— Не завидуем вам, ребята, “чехи” вас засекли, — кинули на прощание десантники.
Замкомбата Лобанов приказывает занять круговую оборону. Сам же со старшим лейтенантом-артиллеристом и одним солдатом решает пробраться на тригопункт — выше не бывает. Риск, конечно, но откуда лучше увидишь позиции боевиков? В окопах же с солдатами останутся два офицера.
...Тригопункт. Несмотря на ночь, все позиции — и свои, и чужие — как на ладони. Под горой невдалеке от села чеченские орудия, танки. Лобанов со старшим лейтенантом Савицким спешат нанести их на карту. Вскоре из “зеленки” по ним начинает бить автомат, затем еще несколько... Огонь такой плотный, что все трое кубарем катятся по крутому склону.
Оказавшись в спасительных зарослях, залегли. Чеченцы, их больше двадцати, ищут их.
Вот один из боевиков спускается в их сторону. Юрию Лобанову казалось, что чувствует его дыхание. Еще шаг, — молнией мелькнула мысль, — и стреляю. Но тут дудаевца окликают. Можно перевести дух.
— А у меня сегодня день рождения. Глупо погибать в такой день, правда? — прерывая тишину, шепчет лежащий слева от Лобанова солдат.
— Сколько?
— Двадцать три.
Юрий отсчитывает двадцать три патрона.
— Извини, больше подарить нечего...
Ожидание продолжается. Боевики, словно чувствуя их присутствие, не уходят. Издалека доносится стрельба. Не иначе, как приняла бой основная группа. Бой идет и где-то справа.
По тригопункту начинает молотить наша артиллерия. “Вот глупо будет, если от своих...” — думает Лобанов. Видит, как рядом с Савицким падает осколок и тот — сегодня об этом смешно вспоминать — прикрывает голову картой. И тут Лобанову показалось, что его ранило в ногу. Нет, слава Богу, это лишь ударил отброшенный взрывом камень.
...Уже потом выяснится, что той ночью боевики выбьют батальонные группы почти со всех занятых ими высоток. Наши, не выдержав напряжения первого боя, будут порой беспорядочно отступать вниз. От верной гибели всех спасет только оставленный подполковником Кононовым резерв. Когда все “бээмпэшки” и три приданных танка выйдут на прямую наводку и поддержат наших огнем, чеченцы, забыв про отступающих, попытаются поджечь бронетехнику. Наверное, им за нее больше платили...
Трусость и доблесть
СВЕТАЛО. Пролежав в ожидании своей участи несколько часов, все трое наконец решают: будь что будет — идем, а вернее, бежим в психическую атаку.
Рассредоточились метров на пятнадцать друг от друга — и бегом вверх, назад к тригопункту! Добежали. Но там никого. Пытаясь добраться до основной группы, прошли по тылам дудаевцев километров пятнадцать. Когда все-таки добрались до окопов, в них нашли лишь расщепленный автомат, окровавленные бинты, распотрошенные солдатские вещмешки да разбросанные галеты из сухпайков...
Позже они узнают, что едва начнется бой, два оставшихся офицера бросят солдат и позорно сбегут.
Командир полка в ярости пригрозит отдать их под суд, но дело замнут. У одного папа окажется генералом украинской армии. Короче, уволят их.
Трусость и доблесть на войне всегда рядом.
Их солдаты, не получив команды отходить, судя по обилию гильз, будут сражаться до последнего, около часа отстреливались от атакующих дудаевцев. Ранеными, они попадут в плен. Спустя еще два месяца уже другой полк наткнется на их трупы на окраине села. Все со следами пыток — поломанными ногами и руками и добитые в голову...
Лобанов же с Савицким и Лаврентьевым дойдут-таки до своих, в целости и сохранности доставив карту.
— Ты, наверное, пехота, напутал что-то, мои ребята все излазили, нет там никакой артиллерии, — скажет офицер-десантник, спешно передирая разведданные в свою карту.
— Да ладно выделываться, сам в десанте служил. А ребята твои, в
Показать больше
29 дн. назад
727 лет назад
22 июля 1298 года
В ФОЛКЕРКСКОЙ БИТВЕ АНГЛИЧАНАМ УДАЛОСЬ НАКОНЕЦ РАЗБИТЬ ШОТЛАНДСКОЕ ВОЙСКО УИЛЬЯМА УОЛЛЕСА
На этот раз против знаменитого шотландского мятежника, так много крови попившего у англичан, выступил лично английский король ЭДУАРД ПЕРВЫЙ, коварный и хитрый правитель, опытный полководец.
Король серьезно подготовился, приведя к Фолкерку 15-тысячное войско против 6 тысяч пехотинцев и 1 тысячи дворянской конницы у Уоллеса. Но эту тысячу можно и не считать, ибо шотландская знать подчинялась Уоллесу лишь условно и в решающий момент покинула поле битвы (видимо не без тайного сговора с королем).
Впрочем, первоначально шотландская пехота построенная в 4 шилтрона (крупные отряды, "круглые по форме с людьми стоящими плечом к плечу в глубоком построении и лицом к внешней линии круга, с копьями выставленными вперёд и вверх") даже без прикрытия кавалерии прочно держала оборону.
Английские рыцари, недооценившие оборонительные возможности шотландского боевого порядка, во множестве гибли на шотландских кольях и копьях. Король прибыл на место боя уже тогда, когда конница, понёсшая значительные потери, была в полном расстройстве. Однако королю удалось быстро восстановить дисциплину.
В бой с шотландцами вступила английская пехота. Шотландцы начали теснить английских пехотинцев. Однако шилтроны имели и недостаток: заняв статичную оборонительную позицию, они не могли маневрировать на поле боя и были изолированы друг от друга. Подоспевшие на поле боя английские лучники открыли стрельбу по шотландцам. Шотландские ряды смешались. В бой снова вступила английская конница и наконец шотландцы дрогнули.
Из 6 тысяч воинов Уоллеса было убито две трети - 4 тысячи.
Англичанам тоже дорого далась победа - погибло 3 тысячи. Однако, король был очень доволен и по легенде даже публично похвастался своей предприимчивостью - мол как здорово, что я перед боем задержал жалованье солдатам, теперь сэкономлю...
ПС
Некоторые историки пишут о плене и казни Уоллеса в контексте проигранной битвы (создавая впечатление, что чуть ли не в битве и пленили), но надо учесть что захватят его англичане только в августе 1305 года - аж через 7 лет после Фолкерка и за эти 7 лет будет много более мелких стычек (для нового большого сражения ресурсов у Уоллеса больше не было и он перешел к партизанской борьбе). #avo
22 июля 1298 года
В ФОЛКЕРКСКОЙ БИТВЕ АНГЛИЧАНАМ УДАЛОСЬ НАКОНЕЦ РАЗБИТЬ ШОТЛАНДСКОЕ ВОЙСКО УИЛЬЯМА УОЛЛЕСА
На этот раз против знаменитого шотландского мятежника, так много крови попившего у англичан, выступил лично английский король ЭДУАРД ПЕРВЫЙ, коварный и хитрый правитель, опытный полководец.
Король серьезно подготовился, приведя к Фолкерку 15-тысячное войско против 6 тысяч пехотинцев и 1 тысячи дворянской конницы у Уоллеса. Но эту тысячу можно и не считать, ибо шотландская знать подчинялась Уоллесу лишь условно и в решающий момент покинула поле битвы (видимо не без тайного сговора с королем).
Впрочем, первоначально шотландская пехота построенная в 4 шилтрона (крупные отряды, "круглые по форме с людьми стоящими плечом к плечу в глубоком построении и лицом к внешней линии круга, с копьями выставленными вперёд и вверх") даже без прикрытия кавалерии прочно держала оборону.
Английские рыцари, недооценившие оборонительные возможности шотландского боевого порядка, во множестве гибли на шотландских кольях и копьях. Король прибыл на место боя уже тогда, когда конница, понёсшая значительные потери, была в полном расстройстве. Однако королю удалось быстро восстановить дисциплину.
В бой с шотландцами вступила английская пехота. Шотландцы начали теснить английских пехотинцев. Однако шилтроны имели и недостаток: заняв статичную оборонительную позицию, они не могли маневрировать на поле боя и были изолированы друг от друга. Подоспевшие на поле боя английские лучники открыли стрельбу по шотландцам. Шотландские ряды смешались. В бой снова вступила английская конница и наконец шотландцы дрогнули.
Из 6 тысяч воинов Уоллеса было убито две трети - 4 тысячи.
Англичанам тоже дорого далась победа - погибло 3 тысячи. Однако, король был очень доволен и по легенде даже публично похвастался своей предприимчивостью - мол как здорово, что я перед боем задержал жалованье солдатам, теперь сэкономлю...
ПС
Некоторые историки пишут о плене и казни Уоллеса в контексте проигранной битвы (создавая впечатление, что чуть ли не в битве и пленили), но надо учесть что захватят его англичане только в августе 1305 года - аж через 7 лет после Фолкерка и за эти 7 лет будет много более мелких стычек (для нового большого сражения ресурсов у Уоллеса больше не было и он перешел к партизанской борьбе). #avo
Показать больше
6 мс. назад
Помню, уже спустя годы после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с красной звездой и со столбцом фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков… Я читал фамилии незнакомых мне людей и когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так часто дышала она мне прямо в лицо.
В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.
В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.
Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:
— То-о-оли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…
Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…
Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.
А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…
А тишину разорвал рев танков. И снова бой.
И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.
Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.
Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.
Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…
…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.
Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.
Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…
Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.
В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.
Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».
Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…
Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.
В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…
После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.
В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.
В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.
Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:
— То-о-оли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…
Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…
Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.
А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…
А тишину разорвал рев танков. И снова бой.
И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.
Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.
Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.
Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…
…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.
Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.
Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…
Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.
В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.
Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».
Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…
Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.
В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…
После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.
Показать больше
1 год назад
Когда командир приказал взять Осло!
На самом деле осла на фото несут не шутки ради. Пехота идет по минному полю и неверный шаг осла способен подорвать и животное и окружающих. А так солдат с ослом спокойно миновал опасный участок.
Фотография впервые появилась в прессе в 60-е. Ее ошибочно датировали Второй мировой. Однако историк Дуглас Порч развеял миф, рассказав, что эта фотография из архива французского иностранного легиона. И сделана она была во время Алжирской войны.
А ослика солдаты накануне нашли истощенным. Выкормили и взяли с собой.
Погрузись в величайшую веху в Истории Человечества вместе с нами!
На самом деле осла на фото несут не шутки ради. Пехота идет по минному полю и неверный шаг осла способен подорвать и животное и окружающих. А так солдат с ослом спокойно миновал опасный участок.
Фотография впервые появилась в прессе в 60-е. Ее ошибочно датировали Второй мировой. Однако историк Дуглас Порч развеял миф, рассказав, что эта фотография из архива французского иностранного легиона. И сделана она была во время Алжирской войны.
А ослика солдаты накануне нашли истощенным. Выкормили и взяли с собой.
Погрузись в величайшую веху в Истории Человечества вместе с нами!
Показать больше
1 год назад
Организация римской конницы
Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.
Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.
Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.
Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивляться, отчего не было сформировано особых отрядов тяжеловооруженных драгун, которые, спешившись, могли бы занять в боевом порядке место рядом с триариями или лучшей пехотой. Этого не делали и ограничивались обладанием плохо снаряженной и вооруженной конницы, которая была совершенно неспособна выполнить свою задачу даже в такое время, когда метательное оружие поражало только на несколько шагов.
Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.
Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.
Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.
Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивляться, отчего не было сформировано особых отрядов тяжеловооруженных драгун, которые, спешившись, могли бы занять в боевом порядке место рядом с триариями или лучшей пехотой. Этого не делали и ограничивались обладанием плохо снаряженной и вооруженной конницы, которая была совершенно неспособна выполнить свою задачу даже в такое время, когда метательное оружие поражало только на несколько шагов.
Показать больше
1 год назад
Аконтисты - воины, вооруженные короткими копьями, дротиками. Легкая пехота, вооруженная дротиками.
Название произошло от "а-контос" - "короткий контос". Хотя можно перевести и как копьеметатель.
Аконтистами называли дротикометателей вцелом, если я не ошибаюсь. Пельтасты имеют набор оружия, в состав которого входит пельта. по-видимому каждый пельтаст аконтиста, но не каждый аконтист - пельтаст.
Т.е. аконтистом можно назвать любого воина имеющего дротик.
У эллинов, аконтисты - формировались из слуг и рабов как спомогательные подразделение гоплитам.
Видимо радикальное применение слуг гоплитов, которых чтоб во время боя не сидели без дела вооружили дротиками.
Возможно именно их называют застрельщиками.
Вообще, дротик был серьезным оружием в умелых руках. Проблема заключалась лишь в том, что воин, использующий его, должен был подойти к противнику на достаточно близкое расстояние, а это могло произойти только при отсутствии у того лучников и пращников (или при нейтрализации цхдействий). Иначе действия аконтистов (т.е. метателей дротиков) сводились на нет. Поэтому в легкой пехоте именно аконтисты первыми стали использовать щит и "мягкие" доспехи, изготовленные из войлока или кожи. Но даже в
этом случае их должны были прикрывать отряды стрелков, дабы метатели дротиков смогли приблизиться к врагу на необходимое расстояние относительно без потерь. Кроме того, аконтисты могли эффективно использоваться только против построений типа фаланги, малоподвижной, лишенной маневренности.
Целью стрелков и аконтистов в бою являлись уязвимые места: ноги, руки, лица... При этом вовсе не обязательно было поражать врага насмерть одним ударом (хотя такое весьма ценилось), достаточно было ранения, исключающего его дальнейшее участие в сражении. Такая тактика обусловливалась тем, что фаланга спереди и, возможно, с флангов прикрывалась сплошным рядом больших прямоугольных щитов, так что цель выбрать было до-
вольно сложно.
Командовал ими, во врем
Название произошло от "а-контос" - "короткий контос". Хотя можно перевести и как копьеметатель.
Аконтистами называли дротикометателей вцелом, если я не ошибаюсь. Пельтасты имеют набор оружия, в состав которого входит пельта. по-видимому каждый пельтаст аконтиста, но не каждый аконтист - пельтаст.
Т.е. аконтистом можно назвать любого воина имеющего дротик.
У эллинов, аконтисты - формировались из слуг и рабов как спомогательные подразделение гоплитам.
Видимо радикальное применение слуг гоплитов, которых чтоб во время боя не сидели без дела вооружили дротиками.
Возможно именно их называют застрельщиками.
Вообще, дротик был серьезным оружием в умелых руках. Проблема заключалась лишь в том, что воин, использующий его, должен был подойти к противнику на достаточно близкое расстояние, а это могло произойти только при отсутствии у того лучников и пращников (или при нейтрализации цхдействий). Иначе действия аконтистов (т.е. метателей дротиков) сводились на нет. Поэтому в легкой пехоте именно аконтисты первыми стали использовать щит и "мягкие" доспехи, изготовленные из войлока или кожи. Но даже в
этом случае их должны были прикрывать отряды стрелков, дабы метатели дротиков смогли приблизиться к врагу на необходимое расстояние относительно без потерь. Кроме того, аконтисты могли эффективно использоваться только против построений типа фаланги, малоподвижной, лишенной маневренности.
Целью стрелков и аконтистов в бою являлись уязвимые места: ноги, руки, лица... При этом вовсе не обязательно было поражать врага насмерть одним ударом (хотя такое весьма ценилось), достаточно было ранения, исключающего его дальнейшее участие в сражении. Такая тактика обусловливалась тем, что фаланга спереди и, возможно, с флангов прикрывалась сплошным рядом больших прямоугольных щитов, так что цель выбрать было до-
вольно сложно.
Командовал ими, во врем
Показать больше
1 год назад
Помню, уже спустя годы после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с красной звездой и со столбцом фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков… Я читал фамилии незнакомых мне людей и когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так часто дышала она мне прямо в лицо.
В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.
В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.
Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:
— То-о-оли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…
Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…
Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.
А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…
А тишину разорвал рев танков. И снова бой.
И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.
Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.
Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.
Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…
…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.
Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.
Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…
Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.
В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.
Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».
Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…
Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.
В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…
После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.
В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.
В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.
Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:
— То-о-оли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…
Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…
Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.
А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…
А тишину разорвал рев танков. И снова бой.
И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.
Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.
Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.
Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…
…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.
Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.
Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…
Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.
В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.
Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».
Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…
Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.
В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…
После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.
Показать больше
1 год назад
78 лет назад, 9 апреля 1945 года, в ходе Восточно-Прусской наступательной операции войска 3-го Белорусского фронта штурмом овладели городом-крепостью КЁНИГСБЕРГ (ныне г. Калининград).
Главный город Восточной Пруссии Кёнигсберг был мощным узлом немецкой обороны, которая включала три оборонительных кольца. Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кёнигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга.
Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков. Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.
8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены 43-й армией.
43-я армия наступала к востоку от Метгетена, заняла форт № 6, ворвалась в центральную часть города, овладела городским вокзалом и цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к пригороду Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила здание городской радиостанция, комендатуру, электростанцию, а затем, наступая на север, в районе городского пруда Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединились с войсками 50-й армии. На башню Der Dohna было водружено Знамя победы.
К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в заняты советскими войсками. Противник продолжал удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни.
В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.
Главный город Восточной Пруссии Кёнигсберг был мощным узлом немецкой обороны, которая включала три оборонительных кольца. Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кёнигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга.
Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков. Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.
8 апреля было предложено немцам сдаться. Они отказались и продолжили сопротивление. Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но были перехвачены 43-й армией.
43-я армия наступала к востоку от Метгетена, заняла форт № 6, ворвалась в центральную часть города, овладела городским вокзалом и цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к пригороду Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила здание городской радиостанция, комендатуру, электростанцию, а затем, наступая на север, в районе городского пруда Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединились с войсками 50-й армии. На башню Der Dohna было водружено Знамя победы.
К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в заняты советскими войсками. Противник продолжал удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни.
В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.
Показать больше
1 год назад
Организация римской конницы
Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.
Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.
Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.
Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивлять
Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.
Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.
Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.
Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование. Напротив того, к спешиванию конницы прибегали так часто, что надо удивлять
Показать больше
1 год назад
1 год назад
Организация римской конницы
Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.
Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.
Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.
Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование.
Тактической единицей римской конницы была турма, состоящая и 3 декурий, по 10 человек в каждой. Командование декуриями осуществляли декурионы, старший из которых был в то же время командиром турмы. К этим трем офицерам выбирали еще троих, которые ездили в замке, так что турма нормальной численности состояла из 6 офицеров и 30 нижних чинов. При построении турма представляла 3 шеренги по 10 человек, иногда 4 — по 8 человек. Командир турмы становился впереди ее, два других декуриона — на обоих флангах в передней шеренге, прочие 3 офицера — в замке, за серединой турмы и за флангами. Также каждая турма имела свой значок.
Конница составляла 1/11 силы легиона, включавшего в себя 10 турм, по одной на каждую когорту. Конница не имела постоянного места в построении: ее располагали или на обоих флангах пехоты, или всю вместе в передней линии, или же, наконец, позади пехоты. Если в легионах союзных войск пехота имела ту же численность, что и в римских, то конница была вдвое сильнее и состояла из 640 человек, в отличие от римских 320.
Турма строилась на полных интервалах, т.е. промежутках, равных длине фронта, и на каждый ряд давалось 5 футов, чтобы всадник мог свободно действовать своим метательным оружием. 16 турм вспомогательных войск, соединенных вместе, составляли крыло, или алу (ala), находившееся под начальством префекта. Часть конницы, размещенная на флангах, обычно перемешивалась с легкой пехотой; на остальную часть, размещенную позади пехоты, возлагалось преследование.
Римляне, хотя и считали службу в коннице почетной и пополняли ряды ее знатными юношами, но до Пунических войн они не понимали ее духа, не придавали ей должного значения и не умели ни обучать ее, ни пользоваться ею. Древним римлянам не приходила в голову возможность пустить ее стеной на противника и быстротой и массой ее сломить его сопротивление; они ставили ей, как уже было сказано, только две цели: разведывание и преследование.
Показать больше
1 год назад
ВОСПОМИНАНИЕ ИВАНА ДЕМИДОВИЧА ШАДРИНА
(из фондов Алматинского Военно-исторического музея ФНВПЦ МО РК.)
«...В Дубосеково мы пришли вечером 15 ноября. Клочков зашел в дом путевого обходчика и попросил покормить нас. Тот не отказал. Сразу после ужина пошли к железнодорожному полотну. Клочков выбрал позицию метрах в трехстах от разъезда вниз. Стали рыть окопы. Мерзлая земля трудно поддавалась. Мы ее рыли кирками и шахтерскими лопатами. Немного погодя подъехал на машине сам генерал Панфилов.
Поздоровался и спросил о нашем настроении. Конечно, мы ответили, что встретим врага подобающим образом. Потом он у Клочкова спросил: - Чем занимаетесь, товарищ политрук? - Окапываемся, - ответил тот, - как приказано. Иван Васильевич внимательно осмотрел нашу оборону и остался недоволен, показал совершенно на другую высотку, где позиция будет более удобной. Он-то знал, что на нас попрет противник усиленный танками, да и для самолетов мы уязвимы. Заново начали рыть окопы. Через трое суток все было готово: и окопы, и блиндажи, и ходы сообщения.
Мы еще сверху все это укрыли лапником и шпалами. Только передохнуть не пришлось. Лишь успели почистить винтовки, аккурат в долинку, что открылась от села Нелидово, высыпала пехота противника и двинулась в нашу сторону. Подпустили поближе, а потом из «Максима» да с винтовок как ударим залпом, да другой раз. Бросив убитых, а, может быть, и раненых, немцы откатились назад. Мы-то радуемся: а как же, все целы, даже никто не ранен, а их-то на снегу вон сколько чернеет! И добрым словом помянули нашего Батю-генерала, удобное место он выбрал, вот что значит, большой опыт иметь! А немного погодя услышали характерный для движущейся техники гул. Все стало ясно: на нас идут танки! И мы их увидели. Казалось, танки движутся сплошной стеной, в два ряда. У нас против такой силы по две гранаты и по две бутылки с зажигательной смесью. Клочков по окопу бежит и успокаивает: - Не тушеваться! Продержимся, братцы! А помощь обязательно придет! Василия Клочкова любили, хотя в те дни ему исполнилось всего-то тридцать. Он располагал к себе беспокойным характером, горячим словом и личной отвагой в бою. Одним из первых был представлен к Ордену Красного Знамени за мужество, проявленное в боях под поселком Болычево. А как он любил свою единственную дочурку! Бывало, в короткие минуты передышек, осторожно вынет из полевой сумки обернутую в газетный лист фотографию, нежно коснется потрескавшимися губами крохотной головки дочурки и скажет: «Это моя». Наверно, у каждого в те минуты ожидания подхода танков перед глазами пронеслись родные образы близких, отчий дом. Подпустили танки поближе, а потом выскочили на бруствер и метали в них гранаты и бутылки. Гарь от подожженного танка густая, дым застилает глаза. Сначала загорелись три, затем еще два танка. Остальные развернулись и поползли назад. - Для первого раза неплохо! - подбодрил политрук.
Правда, теперь у нас были потери. Но не успели перевязать раны и перенести из окопа мертвых, как гитлеровцы снова бросили в атаку уже тридцать стальных махин. Они плотной трехрядной стеной двигались в лоб группе Клочкова. Наш политрук задумался. Пропустить танки на шоссе - значит, открыть путь на Москву. Вот тогда и услышали мы его набатный клич: «Братцы! Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!». Помню, как подбил первый танк. Потом подготовил последнюю гранату и, подпустив темно-зеленое, с крестом на боку, лязгающее чудовище, бросил ее под надвигающиеся траки... Очнулся я в плену. Потом - Германия. Концлагерь. Вернулся домой инвалидом первой группы», - рассказывал о себе солдат Иван Шадрин. За его плечами трудное детство и юношеские годы. Мечта получить образование, но она не сбылась - в доме требовались рабочие руки. Вплоть до призыва в армию был рабочим на сахарном заводе в поселке Кировск Каратальского района. Да, он остался жив, а потом, после освобождения, угодил в другой лагерь, но теперь советский. Ивана Шадрина хоронили трижды. Первый раз его и к Герою Советского Союза представляли посмертно. Уже в советском лагере им вплотную заинтересовались: «Шадрин, говоришь? Тот самый, что у Панфилова в дивизии служил и Москву защищал? Так ты Герой Советского Союза!» И ему не раз приходилось доказывать, что он и есть тот самый Шадрин, и при всем этом - не мертвый, а живой. Когда вернулся домой, только мать встретила сына, отец к тому времени умер, а вот жена вышла замуж за другого. Взял из рук матери «похоронку», пришедшую на него, погоревал да вскоре устроился сторожем на току. И случилось так, что про солдата Шадрина прознал местный журналист и начал писать Калинину, описывая судьбу скромного сельского труженика и честного воина. И добился своего. Шадрина пригласили в Москву, и Михаил Иванович Калинин собственноручно приколол ему на грудь Звезду Героя Советского Союза. В Кировск вернулся Иван Демидович в мундирчике, со Звездой, прихватив с собой фронтовую подругу Анну Кононовну. Шли годы, Иван Демидович вел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Замечательный кинодокументалист Владимир Татенко собирал материалы, чтобы снять нашего земляка на пленку, задумывал фильм о человеке, шагнувшем в бессмертие. К сожалению, никто и ничто не вечно на земле. Сердце фронтовика не выдержало тяжелого ранения и контузии, несправедливостей и невзгод, что выпали на долю отважного патриота. Смерть настигла его 21 октября 1985 года.
(из фондов Алматинского Военно-исторического музея ФНВПЦ МО РК.)
«...В Дубосеково мы пришли вечером 15 ноября. Клочков зашел в дом путевого обходчика и попросил покормить нас. Тот не отказал. Сразу после ужина пошли к железнодорожному полотну. Клочков выбрал позицию метрах в трехстах от разъезда вниз. Стали рыть окопы. Мерзлая земля трудно поддавалась. Мы ее рыли кирками и шахтерскими лопатами. Немного погодя подъехал на машине сам генерал Панфилов.
Поздоровался и спросил о нашем настроении. Конечно, мы ответили, что встретим врага подобающим образом. Потом он у Клочкова спросил: - Чем занимаетесь, товарищ политрук? - Окапываемся, - ответил тот, - как приказано. Иван Васильевич внимательно осмотрел нашу оборону и остался недоволен, показал совершенно на другую высотку, где позиция будет более удобной. Он-то знал, что на нас попрет противник усиленный танками, да и для самолетов мы уязвимы. Заново начали рыть окопы. Через трое суток все было готово: и окопы, и блиндажи, и ходы сообщения.
Мы еще сверху все это укрыли лапником и шпалами. Только передохнуть не пришлось. Лишь успели почистить винтовки, аккурат в долинку, что открылась от села Нелидово, высыпала пехота противника и двинулась в нашу сторону. Подпустили поближе, а потом из «Максима» да с винтовок как ударим залпом, да другой раз. Бросив убитых, а, может быть, и раненых, немцы откатились назад. Мы-то радуемся: а как же, все целы, даже никто не ранен, а их-то на снегу вон сколько чернеет! И добрым словом помянули нашего Батю-генерала, удобное место он выбрал, вот что значит, большой опыт иметь! А немного погодя услышали характерный для движущейся техники гул. Все стало ясно: на нас идут танки! И мы их увидели. Казалось, танки движутся сплошной стеной, в два ряда. У нас против такой силы по две гранаты и по две бутылки с зажигательной смесью. Клочков по окопу бежит и успокаивает: - Не тушеваться! Продержимся, братцы! А помощь обязательно придет! Василия Клочкова любили, хотя в те дни ему исполнилось всего-то тридцать. Он располагал к себе беспокойным характером, горячим словом и личной отвагой в бою. Одним из первых был представлен к Ордену Красного Знамени за мужество, проявленное в боях под поселком Болычево. А как он любил свою единственную дочурку! Бывало, в короткие минуты передышек, осторожно вынет из полевой сумки обернутую в газетный лист фотографию, нежно коснется потрескавшимися губами крохотной головки дочурки и скажет: «Это моя». Наверно, у каждого в те минуты ожидания подхода танков перед глазами пронеслись родные образы близких, отчий дом. Подпустили танки поближе, а потом выскочили на бруствер и метали в них гранаты и бутылки. Гарь от подожженного танка густая, дым застилает глаза. Сначала загорелись три, затем еще два танка. Остальные развернулись и поползли назад. - Для первого раза неплохо! - подбодрил политрук.
Правда, теперь у нас были потери. Но не успели перевязать раны и перенести из окопа мертвых, как гитлеровцы снова бросили в атаку уже тридцать стальных махин. Они плотной трехрядной стеной двигались в лоб группе Клочкова. Наш политрук задумался. Пропустить танки на шоссе - значит, открыть путь на Москву. Вот тогда и услышали мы его набатный клич: «Братцы! Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!». Помню, как подбил первый танк. Потом подготовил последнюю гранату и, подпустив темно-зеленое, с крестом на боку, лязгающее чудовище, бросил ее под надвигающиеся траки... Очнулся я в плену. Потом - Германия. Концлагерь. Вернулся домой инвалидом первой группы», - рассказывал о себе солдат Иван Шадрин. За его плечами трудное детство и юношеские годы. Мечта получить образование, но она не сбылась - в доме требовались рабочие руки. Вплоть до призыва в армию был рабочим на сахарном заводе в поселке Кировск Каратальского района. Да, он остался жив, а потом, после освобождения, угодил в другой лагерь, но теперь советский. Ивана Шадрина хоронили трижды. Первый раз его и к Герою Советского Союза представляли посмертно. Уже в советском лагере им вплотную заинтересовались: «Шадрин, говоришь? Тот самый, что у Панфилова в дивизии служил и Москву защищал? Так ты Герой Советского Союза!» И ему не раз приходилось доказывать, что он и есть тот самый Шадрин, и при всем этом - не мертвый, а живой. Когда вернулся домой, только мать встретила сына, отец к тому времени умер, а вот жена вышла замуж за другого. Взял из рук матери «похоронку», пришедшую на него, погоревал да вскоре устроился сторожем на току. И случилось так, что про солдата Шадрина прознал местный журналист и начал писать Калинину, описывая судьбу скромного сельского труженика и честного воина. И добился своего. Шадрина пригласили в Москву, и Михаил Иванович Калинин собственноручно приколол ему на грудь Звезду Героя Советского Союза. В Кировск вернулся Иван Демидович в мундирчике, со Звездой, прихватив с собой фронтовую подругу Анну Кононовну. Шли годы, Иван Демидович вел большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Замечательный кинодокументалист Владимир Татенко собирал материалы, чтобы снять нашего земляка на пленку, задумывал фильм о человеке, шагнувшем в бессмертие. К сожалению, никто и ничто не вечно на земле. Сердце фронтовика не выдержало тяжелого ранения и контузии, несправедливостей и невзгод, что выпали на долю отважного патриота. Смерть настигла его 21 октября 1985 года.
Показать больше
1 год назад
УТРО 6 АВГУСТА 1915 ГОДА. НЕМЦЫ, ОСАЖДАЮЩИЕ РУССКУЮ КРЕПОСТЬ ОСОВЕЦ, НАЧИНАЮТ ГАЗОВУЮ АТАКУ: ЖИДКИЙ ХЛОР ИЗ СОТЕН БАЛЛОНОВ УСТРЕМЛЯЕТСЯ НА ЗАЩИТНИКОВ ФОРПОСТА.
По расчетам германского командования, мало кто из русских мог остаться в живых. На штурм русских передовых позиций двинулись не менее 7 тысяч пехотинцев. Но когда германская пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им на встречу в контратаку поднялись остатки 13-й роты 226-го Землянского полка: чуть более 60 человек. Во главе роты был подпоручик Котлинский. Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции, заставив их в беспорядке бежать…
Подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой подпоручику 2-ой Осовецкой саперной роты Стрежеминскому. Владимир Карпович Котлинский умер к вечеру того же дня, Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года он был посмертно награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
«Русские не сдаются!». Рождение этой знаменитой фразы связано именно с тем боем Первой мировой войны.
На снимке Псков. Памятник подпоручику Владимиру Карповичу Котлинскому,
возглавившему «атаку мертвецов» под Осовцом.
По расчетам германского командования, мало кто из русских мог остаться в живых. На штурм русских передовых позиций двинулись не менее 7 тысяч пехотинцев. Но когда германская пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им на встречу в контратаку поднялись остатки 13-й роты 226-го Землянского полка: чуть более 60 человек. Во главе роты был подпоручик Котлинский. Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции, заставив их в беспорядке бежать…
Подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой подпоручику 2-ой Осовецкой саперной роты Стрежеминскому. Владимир Карпович Котлинский умер к вечеру того же дня, Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года он был посмертно награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
«Русские не сдаются!». Рождение этой знаменитой фразы связано именно с тем боем Первой мировой войны.
На снимке Псков. Памятник подпоручику Владимиру Карповичу Котлинскому,
возглавившему «атаку мертвецов» под Осовцом.
Показать больше
2 годы назад
Афинский гоплит, 490 год до н.э.
12 сентября 490 г. до н.э. произошла знаменитая Марафонская битва. Армия персидского царя Дария, причалив на судах к побережью Аттики возле селения Марафон, намеревалась захватить Афины. Греки обратились за помощью к Спарте и с 10-тысячным войском под командованием архонта Каллимаха выступили навстречу противнику.
Спартанцы задержались, поскольку были заняты отправлением религиозных обрядов. Пехоту греков составили 9 тысяч афинских и 600 платейских гоплитов. Для руководства войском был выдвинут один из десяти стратегов – Мильтиад. Он построил фалангу, максимально растянув её строй по фронту и уменьшив количество шеренг в центре. При этом оба фланга упирались в склоны гор и дополнительно усиливались лучшими гоплитами и легковооружённой пехотой. При приближении персов, фаланга бегом двинулась им навстречу, чтобы быстрее преодолеть пространство, простреливаемое персидскими лучниками. Пехота и конница персов прорвали центр греческого строя, но сильные крылья фаланги взяли в клещи наиболее боеспособную часть персидского войска. Замысел Мильтиада оправдался, персы обратились в бегство. Персидские потери составили 6400 человек убитыми, остальным удалось погрузиться на корабли и уйти в море. У афинян были убиты 192 гоплита, среди которых был и архонт Каллимах.
Снаряжение гоплита состоит из бронзового коринфского шлема с волосяным гребнем, укреплённым с боков бронзовыми пластинами. Панцирь (линоторакс) усилен бронзовой чешуёй по линии торса. На ногах поножи (кнемиды) и кожаные сандалии. Обоюдоострый меч вкладывался в ножны, снабжённые устьем и наконечником из слоновой кости. Щит-гоплон украшен изображением чёрного марафонского быка, являвшегося символом гоплитов-ветеранов. К нижней части щита прикреплён кожаный фартук-занавесь, защищающий ноги от стрел, дротиков и метательных камней.
С места боя в Афины был направлен гонец с известием о победе. Едва добежав до города и сообщив радостную весть, он рухнул замертво от изнеможения. В честь мужественного героя афиняне стали проводить состязания в беге на «марафонскую дистанцию», равную 42 км 195 м.
12 сентября 490 г. до н.э. произошла знаменитая Марафонская битва. Армия персидского царя Дария, причалив на судах к побережью Аттики возле селения Марафон, намеревалась захватить Афины. Греки обратились за помощью к Спарте и с 10-тысячным войском под командованием архонта Каллимаха выступили навстречу противнику.
Спартанцы задержались, поскольку были заняты отправлением религиозных обрядов. Пехоту греков составили 9 тысяч афинских и 600 платейских гоплитов. Для руководства войском был выдвинут один из десяти стратегов – Мильтиад. Он построил фалангу, максимально растянув её строй по фронту и уменьшив количество шеренг в центре. При этом оба фланга упирались в склоны гор и дополнительно усиливались лучшими гоплитами и легковооружённой пехотой. При приближении персов, фаланга бегом двинулась им навстречу, чтобы быстрее преодолеть пространство, простреливаемое персидскими лучниками. Пехота и конница персов прорвали центр греческого строя, но сильные крылья фаланги взяли в клещи наиболее боеспособную часть персидского войска. Замысел Мильтиада оправдался, персы обратились в бегство. Персидские потери составили 6400 человек убитыми, остальным удалось погрузиться на корабли и уйти в море. У афинян были убиты 192 гоплита, среди которых был и архонт Каллимах.
Снаряжение гоплита состоит из бронзового коринфского шлема с волосяным гребнем, укреплённым с боков бронзовыми пластинами. Панцирь (линоторакс) усилен бронзовой чешуёй по линии торса. На ногах поножи (кнемиды) и кожаные сандалии. Обоюдоострый меч вкладывался в ножны, снабжённые устьем и наконечником из слоновой кости. Щит-гоплон украшен изображением чёрного марафонского быка, являвшегося символом гоплитов-ветеранов. К нижней части щита прикреплён кожаный фартук-занавесь, защищающий ноги от стрел, дротиков и метательных камней.
С места боя в Афины был направлен гонец с известием о победе. Едва добежав до города и сообщив радостную весть, он рухнул замертво от изнеможения. В честь мужественного героя афиняне стали проводить состязания в беге на «марафонскую дистанцию», равную 42 км 195 м.
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
Восемь тысяч убитых и раненых солдат и офицеров вермахта, 10 подбитых танков, 70 уничтоженных орудий и сотни тонн военных трофеев — 81 год назад, 8 февраля 1943 года, советские войска освободили от немцев Курск.
Тщательно спланированное молниеносное наступление частей и соединений 60-й армии Воронежского фронта под командованием генерал-майора Ивана Черняховского позволило выбить захватчиков из города всего за два дня. Взятие Курска имело важнейшее стратегическое значение: советские войска могли выступать на Белгород и Харьков, а вермахт лишился одного из крупнейших транспортных узлов на западе СССР.
Сдавать Курск без боя немцы явно не собирались. Они понимали, что советские войска после освобождения Воронежа 25 января 1943-го двинутся дальше на запад и очень быстро выйдут на окраины города. Курск спешно превращали в неприступную крепость. Захватчики выстроили мощную оборону из двух рубежей с десятками минометных, артиллерийских и пулеметных позиций. В самом городе готовились к бою две пехотные и танковая дивизия, на окраинах окапывались еще шесть дивизий. Немцы рассчитывали остановить советские части еще на дальних рубежах, а если это не удастся — втянуть их в изнурительные уличные бои. Красная армия, и без того ослабленная длительным наступлением, должна была взять город как можно быстрее. Любое промедление лишь множило потери.
Второго февраля советское командование начало операцию "Звезда" по освобождению Курска. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов, которая завершилась 3 марта. Брать город предстояло 60-й армии. Войска выдвинулись в сторону Курска сразу после освобождения Воронежа и через 12 дней вышли на внешние оборонительные рубежи немецких войск.
Генерал-майор Иван Черняховский отдал приказ об уничтожении курской группировки противника 6 февраля в 23:50 по местному времени. Всю ночь четыре советские стрелковые дивизии, а также 248-я стрелковая курсантская и 79-я танковая бригады занимали исходные позиции и рано утром 7 февраля бросились в атаку.
Части 60-й армии несколько часов методично взламывали оборону противника. Особо отличилась в боях 322-я стрелковая дивизия под командованием подполковника Степана Перекальского. Он действовал на фланге наступающей армии и атаковал оборонительные порядки противника с двух сторон — с севера и северо-запада. Немцы, ожидавшие основной удар с востока, недостаточно хорошо закрепились на этих направлениях и не смогли оказать серьезного сопротивления. Пробив брешь в обороне противника, Перекальский принялся терзать фланги основных рубежей немцев, одновременно по ним ударили главные силы 60-й армии. Немецкая пехота, оказавшаяся между молотом и наковальней, дрогнула и отступила в город. Внешнее кольцо обороны, которое должно было остановить советские войска, не продержалось и дня. А в ночь на 8 февраля начался штурм города.
Первыми в город ворвались полки 322-й дивизии совместно с 248-й курсантской бригадой. Красноармейцы блокировали один опорный пункт противника за другим, нарушая между ними сообщение. Изолированные узлы сопротивления подавляли танки, артиллерия и бомбардировщики. И вновь самая трудная задача досталась бойцам подполковника Перекальского. Комдив не отсиживался в тылу или на наблюдательном пункте, а лично вел своих солдат в атаку.
"Начались бои в городе, которые продолжались в течение всего дня 8 февраля, — вспоминал после войны начальник оперативного отдела штаба 60-й армии генерал Петр Лащенко. — С первых минут сражение приобрело яростный характер. Однако полки 322-й дивизии и 248-й бригады продвигались вперед. Боевые действия шли с переменным успехом на множестве участков, на которые распалась вражеская оборона. Но Перекальский, хорошо разбиравшийся в сумятице боя, спешил туда, где чаша весов начинала склоняться в пользу неприятеля. Он был ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах. К вечеру противник в беспорядке оставлял Курск. Однако Перекальский этого видеть не мог, вражеская пуля оборвала жизнь комдива".
Подполковник Степан Перекальский погиб на улице Ямская гора. Он вел за собой бойцов 1089-го стрелкового полка, двигаясь к мединституту. Когда пехоте оставалось пробежать до здания сотню метров, с нижнего этажа неожиданно ударил пулемет. Красноармейцы были вынуждены залечь.
Командир понимал, что с такой дистанции подавить защищенную огневую точку невозможно, поэтому поднялся в полный рост и личным примером увлек солдат за собой. Почти сразу же Перекальский был смертельно ранен в грудь, но его бойцы смогли сократить дистанцию и забросать вражеский пулемет гранатами. Очевидцы вспоминали, что последними словами комдива была короткая фраза-приказ: "Друзья, возьмите город".
Ожесточенные бои в Курске продолжались до вечера 8 февраля. К ночи последние узлы сопротивления были подавлены, а в центре города на здании Дворца пионеров советские бойцы водрузили красный флаг. Уцелевшие части противника бежали из города на запад и юг, в пока еще занятые вермахтом населенные пункты. А 60-я армия продолжила зачищать Курскую область и прикрывать фланги группировки войск, задействованной в Харьковской операции. Красноармейцы в очередной раз доказали, что им нет равных в уличных боях и что они освоили тактику молниеносных наступлений лучше, чем сами авторы блицкрига.
Для немцев же освобождение Курска было тяжелым ударом. Потеря важного города площадью почти 200 квадратных километров всего за два дня боев воспринималась гитлеровскими военачальниками как большое унижение. Убеленный сединами генерал Шнейдер, командовавший немецкой группировкой, долго не мог поверить, что его воинство разбил 35-летний генерал. Третий рейх попытался вернуть город летом того же года в ходе невиданной по масштабам Курской битвы. По замыслу руководства вермахта, именно здесь должны были встретиться ударные группы, пытавшиеся срезать "курский выступ" с севера и с юга. Однако советские войска, в том числе и 60-я армия генерала Черняховского, не пустили немца в освобожденный город.
Тщательно спланированное молниеносное наступление частей и соединений 60-й армии Воронежского фронта под командованием генерал-майора Ивана Черняховского позволило выбить захватчиков из города всего за два дня. Взятие Курска имело важнейшее стратегическое значение: советские войска могли выступать на Белгород и Харьков, а вермахт лишился одного из крупнейших транспортных узлов на западе СССР.
Сдавать Курск без боя немцы явно не собирались. Они понимали, что советские войска после освобождения Воронежа 25 января 1943-го двинутся дальше на запад и очень быстро выйдут на окраины города. Курск спешно превращали в неприступную крепость. Захватчики выстроили мощную оборону из двух рубежей с десятками минометных, артиллерийских и пулеметных позиций. В самом городе готовились к бою две пехотные и танковая дивизия, на окраинах окапывались еще шесть дивизий. Немцы рассчитывали остановить советские части еще на дальних рубежах, а если это не удастся — втянуть их в изнурительные уличные бои. Красная армия, и без того ослабленная длительным наступлением, должна была взять город как можно быстрее. Любое промедление лишь множило потери.
Второго февраля советское командование начало операцию "Звезда" по освобождению Курска. Это была часть более масштабной Харьковской наступательной операции войск Брянского и Воронежского фронтов, которая завершилась 3 марта. Брать город предстояло 60-й армии. Войска выдвинулись в сторону Курска сразу после освобождения Воронежа и через 12 дней вышли на внешние оборонительные рубежи немецких войск.
Генерал-майор Иван Черняховский отдал приказ об уничтожении курской группировки противника 6 февраля в 23:50 по местному времени. Всю ночь четыре советские стрелковые дивизии, а также 248-я стрелковая курсантская и 79-я танковая бригады занимали исходные позиции и рано утром 7 февраля бросились в атаку.
Части 60-й армии несколько часов методично взламывали оборону противника. Особо отличилась в боях 322-я стрелковая дивизия под командованием подполковника Степана Перекальского. Он действовал на фланге наступающей армии и атаковал оборонительные порядки противника с двух сторон — с севера и северо-запада. Немцы, ожидавшие основной удар с востока, недостаточно хорошо закрепились на этих направлениях и не смогли оказать серьезного сопротивления. Пробив брешь в обороне противника, Перекальский принялся терзать фланги основных рубежей немцев, одновременно по ним ударили главные силы 60-й армии. Немецкая пехота, оказавшаяся между молотом и наковальней, дрогнула и отступила в город. Внешнее кольцо обороны, которое должно было остановить советские войска, не продержалось и дня. А в ночь на 8 февраля начался штурм города.
Первыми в город ворвались полки 322-й дивизии совместно с 248-й курсантской бригадой. Красноармейцы блокировали один опорный пункт противника за другим, нарушая между ними сообщение. Изолированные узлы сопротивления подавляли танки, артиллерия и бомбардировщики. И вновь самая трудная задача досталась бойцам подполковника Перекальского. Комдив не отсиживался в тылу или на наблюдательном пункте, а лично вел своих солдат в атаку.
"Начались бои в городе, которые продолжались в течение всего дня 8 февраля, — вспоминал после войны начальник оперативного отдела штаба 60-й армии генерал Петр Лащенко. — С первых минут сражение приобрело яростный характер. Однако полки 322-й дивизии и 248-й бригады продвигались вперед. Боевые действия шли с переменным успехом на множестве участков, на которые распалась вражеская оборона. Но Перекальский, хорошо разбиравшийся в сумятице боя, спешил туда, где чаша весов начинала склоняться в пользу неприятеля. Он был ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах. К вечеру противник в беспорядке оставлял Курск. Однако Перекальский этого видеть не мог, вражеская пуля оборвала жизнь комдива".
Подполковник Степан Перекальский погиб на улице Ямская гора. Он вел за собой бойцов 1089-го стрелкового полка, двигаясь к мединституту. Когда пехоте оставалось пробежать до здания сотню метров, с нижнего этажа неожиданно ударил пулемет. Красноармейцы были вынуждены залечь.
Командир понимал, что с такой дистанции подавить защищенную огневую точку невозможно, поэтому поднялся в полный рост и личным примером увлек солдат за собой. Почти сразу же Перекальский был смертельно ранен в грудь, но его бойцы смогли сократить дистанцию и забросать вражеский пулемет гранатами. Очевидцы вспоминали, что последними словами комдива была короткая фраза-приказ: "Друзья, возьмите город".
Ожесточенные бои в Курске продолжались до вечера 8 февраля. К ночи последние узлы сопротивления были подавлены, а в центре города на здании Дворца пионеров советские бойцы водрузили красный флаг. Уцелевшие части противника бежали из города на запад и юг, в пока еще занятые вермахтом населенные пункты. А 60-я армия продолжила зачищать Курскую область и прикрывать фланги группировки войск, задействованной в Харьковской операции. Красноармейцы в очередной раз доказали, что им нет равных в уличных боях и что они освоили тактику молниеносных наступлений лучше, чем сами авторы блицкрига.
Для немцев же освобождение Курска было тяжелым ударом. Потеря важного города площадью почти 200 квадратных километров всего за два дня боев воспринималась гитлеровскими военачальниками как большое унижение. Убеленный сединами генерал Шнейдер, командовавший немецкой группировкой, долго не мог поверить, что его воинство разбил 35-летний генерал. Третий рейх попытался вернуть город летом того же года в ходе невиданной по масштабам Курской битвы. По замыслу руководства вермахта, именно здесь должны были встретиться ударные группы, пытавшиеся срезать "курский выступ" с севера и с юга. Однако советские войска, в том числе и 60-я армия генерала Черняховского, не пустили немца в освобожденный город.
Показать больше
2 годы назад
Немецкая пехота перед атакой на окраине Сталинграда. Второй слева солдат несет на плече 50-мм миномет leGrW 36. 1942 г.
Уже к началу следующего года от этой немецкой армии не останется и следа...
Уже к началу следующего года от этой немецкой армии не останется и следа...
2 годы назад
Лес
Было у нас в деревне двое парней — дружили шибко, вместе с пеленок, как говорится. Вместе шалили, вместе ремня родительского за проказы отгребали, вместе на дискотеках девушек тискали. Ребята выросли статными, завидными женихами — полдеревни девок за ними бегало. Вместе решили и в армию идти. Вот только вернулся из армии только один — второй погиб от непроизвольного взрыва боеприпасов вместе с танком. Притом вернувшийся очень часто за бутылкой рассказывал одну и ту же историю...
Они, еще зеленые танкисты после учебки, попали в одну часть, только в разные экипажи. За полигоном был лесок, о котором местные говорили очень много и плохо. Мол, нехорошее место, старое кладбище для некрещеных и самоубийц.
И вот начались учения. Хочешь не хочешь, а танк с его другом был отправлен в лес маскироваться. Танки стоят, ждут, пока пехотники на полигоне отучатся, чтобы потом вступить со своей задачей. Члены экипажей на траве валяются да анекдоты травят.
И вдруг выходит из леса его друг, медленно, шатаясь. Подходит ближе...
Батюшки! Глаз нет, весь в крови, изувечен.
Сразу того парня медики в оборот взяли. Потом давай вызывать мобильную сангруппу, сами курят и нервничают...
Оказывается, у парня уже трупное окоченение наступило — констатировали время смерти еще с раннего утра. А нет, вон лежит — и все видели, как САМ пришел.
Что тут началось!
Офицерье приехало, младших отстранили. Вытянули танк из леса — весь экипаж мертв, без глаз, убит от множественных проникающих насквозь тонким предметом. Как шпагой или проволокой напрочь перешили всех. Следов, кроме солдатских сапог, в лесу нет, да след трака техники.
Приняли решение весь экипаж вместе с танком сжечь.
Потом офицерье рассказывало остальным танкистам, что когда облили танк горючкой и подпалили, у него начала двигаться башня и щелкала затворным механизмом, чтобы выстрелить в группу офицеров. Только нечем — даже холостых снарядов не имелось.
Пока танк полностью не задымился и не сгорел, складывалось впечатление, что его экипаж абсолютно дееспособен и действует слаженно, как для атаки. Мало того, пехота в паре километров уловила спецтехникой обрывки переговоров, как экипаж танка переговаривается между собой по внутренней связи в боевом режиме. Но ведь тела погибших же просто сгрузили вниз, а не рассаживали по местам!
И долго потом вспоминали случай в том леску двадцатилетней давности — то же самое произошло с экипажем нескольких БТР. Что-то солдатиков убило, как длинными шпагами, выкололо глаза, и один мертвый сам пришел к медикам в часть. Только тогда дело не замяли, а разбирательство было с привлечением спецорганов высшего уровня из Москвы.
Единственно, что тот парень жалеет, что не оказался со своим другом в одном экипаже. Погибать — так вместе...
Было у нас в деревне двое парней — дружили шибко, вместе с пеленок, как говорится. Вместе шалили, вместе ремня родительского за проказы отгребали, вместе на дискотеках девушек тискали. Ребята выросли статными, завидными женихами — полдеревни девок за ними бегало. Вместе решили и в армию идти. Вот только вернулся из армии только один — второй погиб от непроизвольного взрыва боеприпасов вместе с танком. Притом вернувшийся очень часто за бутылкой рассказывал одну и ту же историю...
Они, еще зеленые танкисты после учебки, попали в одну часть, только в разные экипажи. За полигоном был лесок, о котором местные говорили очень много и плохо. Мол, нехорошее место, старое кладбище для некрещеных и самоубийц.
И вот начались учения. Хочешь не хочешь, а танк с его другом был отправлен в лес маскироваться. Танки стоят, ждут, пока пехотники на полигоне отучатся, чтобы потом вступить со своей задачей. Члены экипажей на траве валяются да анекдоты травят.
И вдруг выходит из леса его друг, медленно, шатаясь. Подходит ближе...
Батюшки! Глаз нет, весь в крови, изувечен.
Сразу того парня медики в оборот взяли. Потом давай вызывать мобильную сангруппу, сами курят и нервничают...
Оказывается, у парня уже трупное окоченение наступило — констатировали время смерти еще с раннего утра. А нет, вон лежит — и все видели, как САМ пришел.
Что тут началось!
Офицерье приехало, младших отстранили. Вытянули танк из леса — весь экипаж мертв, без глаз, убит от множественных проникающих насквозь тонким предметом. Как шпагой или проволокой напрочь перешили всех. Следов, кроме солдатских сапог, в лесу нет, да след трака техники.
Приняли решение весь экипаж вместе с танком сжечь.
Потом офицерье рассказывало остальным танкистам, что когда облили танк горючкой и подпалили, у него начала двигаться башня и щелкала затворным механизмом, чтобы выстрелить в группу офицеров. Только нечем — даже холостых снарядов не имелось.
Пока танк полностью не задымился и не сгорел, складывалось впечатление, что его экипаж абсолютно дееспособен и действует слаженно, как для атаки. Мало того, пехота в паре километров уловила спецтехникой обрывки переговоров, как экипаж танка переговаривается между собой по внутренней связи в боевом режиме. Но ведь тела погибших же просто сгрузили вниз, а не рассаживали по местам!
И долго потом вспоминали случай в том леску двадцатилетней давности — то же самое произошло с экипажем нескольких БТР. Что-то солдатиков убило, как длинными шпагами, выкололо глаза, и один мертвый сам пришел к медикам в часть. Только тогда дело не замяли, а разбирательство было с привлечением спецорганов высшего уровня из Москвы.
Единственно, что тот парень жалеет, что не оказался со своим другом в одном экипаже. Погибать — так вместе...
Показать больше
2 годы назад
УТРО 6 АВГУСТА 1915 ГОДА. НЕМЦЫ, ОСАЖДАЮЩИЕ РУССКУЮ КРЕПОСТЬ ОСОВЕЦ, НАЧИНАЮТ ГАЗОВУЮ АТАКУ: ЖИДКИЙ ХЛОР ИЗ СОТЕН БАЛЛОНОВ УСТРЕМЛЯЕТСЯ НА ЗАЩИТНИКОВ ФОРПОСТА.
По расчетам германского командования, мало кто из русских мог остаться в живых. На штурм русских передовых позиций двинулись не менее 7 тысяч пехотинцев. Но когда германская пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им на встречу в контратаку поднялись остатки 13-й роты 226-го Землянского полка: чуть более 60 человек. Во главе роты был подпоручик Котлинский. Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции, заставив их в беспорядке бежать…
Подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой подпоручику 2-ой Осовецкой саперной роты Стрежеминскому. Владимир Карпович Котлинский умер к вечеру того же дня, Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года он был посмертно награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
«Русские не сдаются!». Рождение этой знаменитой фразы связано именно с тем боем Первой мировой войны.
На снимке Псков. Памятник подпоручику Владимиру Карповичу Котлинскому,
возглавившему «атаку мертвецов» под Осовцом.
По расчетам германского командования, мало кто из русских мог остаться в живых. На штурм русских передовых позиций двинулись не менее 7 тысяч пехотинцев. Но когда германская пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им на встречу в контратаку поднялись остатки 13-й роты 226-го Землянского полка: чуть более 60 человек. Во главе роты был подпоручик Котлинский. Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции, заставив их в беспорядке бежать…
Подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой подпоручику 2-ой Осовецкой саперной роты Стрежеминскому. Владимир Карпович Котлинский умер к вечеру того же дня, Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года он был посмертно награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
«Русские не сдаются!». Рождение этой знаменитой фразы связано именно с тем боем Первой мировой войны.
На снимке Псков. Памятник подпоручику Владимиру Карповичу Котлинскому,
возглавившему «атаку мертвецов» под Осовцом.
Показать больше
2 годы назад
Пуническая фаланга...
Ливо-финикийская пехота формировала фалангу македонского типа, которая, если понимать Полибия буквально, была организована в «спейры». Возможно, назывались эти подразделения как-то иначе, но они, несомненно, были того же размера. Фалангиты должны были пользоваться типичным оружием эллинистического пешего воина.
Ливо-финикийская пехота формировала фалангу македонского типа, которая, если понимать Полибия буквально, была организована в «спейры». Возможно, назывались эти подразделения как-то иначе, но они, несомненно, были того же размера. Фалангиты должны были пользоваться типичным оружием эллинистического пешего воина.
Показать больше
2 годы назад
СТАВКИ ВЗВИНЧЕНЫ ДО ПРЕДЕЛА. ПУТИН ЛЕТИТ В САМЫЙ ЭПИЦЕНТР ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ НАТО НАД БАЛТИКОЙ
На этой неделе НАТО начинает масштабные военные учения, под кодовым названием "Непоколебимый защитник- 24"
Изначально НАТО хотело провести эти учения в период февраль-апрель 2024 года, но в последний момент увеличило период отработки военных манёвров с января по май. При этом силы будут задействованы весьма внушительные (более 50 кораблей, 100 самолётов, с количеством вылетов более 700, и свыше 40 тысяч военных).
География - вся Прибалтика, Балтийское море, Финляндия, Чехия, Германия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия. По факту это отработка наступательной операции против России. Ровно то, что они тренировали последние годы, только с большим объёмом личного состава и техники, которая направлена на наш Калининград, Кольский полуостров, Ленинградскую область и Карелию.
Очень похоже на то, что ранний старт учений связан с негативной ситуацией их подопечных древне-шумерского происхождения на линии БС. Именно поэтому они решили начать на месяц раньше, чтобы оттянуть часть наших сил, поскольку мы, так или иначе, вынуждены усиливать свои границы в этот период.
Однако занятно другое, вчера объявили, что наш Верховный летит в Калининград. Учитывая то, что в эксклав можно теперь попасть только через нейтральные воды Балтики, то наш лидер полетит в самой гуще событий, поскольку старт учений совпадает с его визитом.
Зачем Путин так рискует и зачем летит, учитывая потенциальные риски?
Всё очень просто, он не может не полететь. Визит Верховного Главнокомандующего в Калининград - это тоже демонстрация нашего присутствия, только в отличии от их "Столтенбергов, Шольцев и Байденов", демонстрировать наше присутствие он будет лично, в сопровождении боевых кораблей Балтийского флота, авиации, которая, к слову, лучшая в мире и не проиграла ни одного воздушного боя за последние 2 года.
Морская пехота, "злые крылатые малышки" и весь перечень стратегического вооружения также прилагается. Он летит не с пустыми руками, а Бастионы, ПВО и Искандеры будут прикрывать с берега. Кстати, теперь понятно, почему на прошлой неделе в Прибалтике и Польше пропал сигнал GPS, наши репетировали поездку Владимира Владимировича в Калининград.
Вообще, небо над Балтикой самое "жаркое" на всей планете. Такой концентрации боевых самолётов и вертолётов нет практически нигде. Наши лётчики именно здесь отрабатывают свои манёвры. Рядом машины НАТО, которые постоянно пытаются приблизиться к нашему воздушному пространству, и чтобы их отогнать, требуется мастерство, которое приходит очень и очень быстро, учитывая интенсивность полётов противника.
Так что послезавтра Путин полетит подготовленным и те натовцы, которые думают, что они будут вести цель на своих радарах, сами окажутся целями. Причём для наших нет разницы, где они находятся, в Вильнюсе, Брюсселе или Лондоне с Вашингтоном. В этот момент все они будут лишь координатами для больших и малых "злых крылатых малышек". Так что им лучше притихнуть и вести себя очень вежливо, даже ласково.
На этой неделе НАТО начинает масштабные военные учения, под кодовым названием "Непоколебимый защитник- 24"
Изначально НАТО хотело провести эти учения в период февраль-апрель 2024 года, но в последний момент увеличило период отработки военных манёвров с января по май. При этом силы будут задействованы весьма внушительные (более 50 кораблей, 100 самолётов, с количеством вылетов более 700, и свыше 40 тысяч военных).
География - вся Прибалтика, Балтийское море, Финляндия, Чехия, Германия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия. По факту это отработка наступательной операции против России. Ровно то, что они тренировали последние годы, только с большим объёмом личного состава и техники, которая направлена на наш Калининград, Кольский полуостров, Ленинградскую область и Карелию.
Очень похоже на то, что ранний старт учений связан с негативной ситуацией их подопечных древне-шумерского происхождения на линии БС. Именно поэтому они решили начать на месяц раньше, чтобы оттянуть часть наших сил, поскольку мы, так или иначе, вынуждены усиливать свои границы в этот период.
Однако занятно другое, вчера объявили, что наш Верховный летит в Калининград. Учитывая то, что в эксклав можно теперь попасть только через нейтральные воды Балтики, то наш лидер полетит в самой гуще событий, поскольку старт учений совпадает с его визитом.
Зачем Путин так рискует и зачем летит, учитывая потенциальные риски?
Всё очень просто, он не может не полететь. Визит Верховного Главнокомандующего в Калининград - это тоже демонстрация нашего присутствия, только в отличии от их "Столтенбергов, Шольцев и Байденов", демонстрировать наше присутствие он будет лично, в сопровождении боевых кораблей Балтийского флота, авиации, которая, к слову, лучшая в мире и не проиграла ни одного воздушного боя за последние 2 года.
Морская пехота, "злые крылатые малышки" и весь перечень стратегического вооружения также прилагается. Он летит не с пустыми руками, а Бастионы, ПВО и Искандеры будут прикрывать с берега. Кстати, теперь понятно, почему на прошлой неделе в Прибалтике и Польше пропал сигнал GPS, наши репетировали поездку Владимира Владимировича в Калининград.
Вообще, небо над Балтикой самое "жаркое" на всей планете. Такой концентрации боевых самолётов и вертолётов нет практически нигде. Наши лётчики именно здесь отрабатывают свои манёвры. Рядом машины НАТО, которые постоянно пытаются приблизиться к нашему воздушному пространству, и чтобы их отогнать, требуется мастерство, которое приходит очень и очень быстро, учитывая интенсивность полётов противника.
Так что послезавтра Путин полетит подготовленным и те натовцы, которые думают, что они будут вести цель на своих радарах, сами окажутся целями. Причём для наших нет разницы, где они находятся, в Вильнюсе, Брюсселе или Лондоне с Вашингтоном. В этот момент все они будут лишь координатами для больших и малых "злых крылатых малышек". Так что им лучше притихнуть и вести себя очень вежливо, даже ласково.
Показать больше
2 годы назад
Высадка легионеров XIV легиона на остров Англси, 60 г. н.э.
Восстание Боудикки
В 60 г. значительную часть провинции Британия охватило восстание под руководством царицы Боудикки из племени иценов. Перед самым началом этого бунта легат Гай Светоний Паулин с двумя из четырех легионов, расположенных в провинции, был занят захватом острова Мона (современный Англси) — главного центра культа друидов. Эта религия была одной из немногих, которые римляне пытались искоренить, так как испытывали отвращение ко всем культам, где важную роль играли человеческие жертвоприношения. К тому же друиды способствовали объединению противников Рима в Британии и Галлии.
Пока Паулин был занят штурмом Моны и убийством друидов и их приверженцев, у восставших в восточной части провинции имелось время, чтобы собраться с силами. Колония в Камулодуне (Кольчестер) стала первой целью восставших, ибо местных жителей возмущало, что на конфискованной у них земле селятся римские ветераны после окончания военной службы. Часть ветеранов два дня держала оборону в большом храме Клавдия, но колония не имела соответствующих укреплений, и сомневаться в конечном исходе осады не приходилось. Разъяренные бритты перебили все население города и многих перед смертью пытали и увечили. В последующие недели Веруламий (Сент-Олбанс) и Лондиний (Лондон) постигла та же участь. Археологи обнаружили в каждом из этих мест толстый слой сгоревших останков, относящихся к времени восстания Боудикки.
Первые ответные действия римляне предприняли, когда крупная вексилляция из IX Испанского (Legio IX Hispana) легиона направилась прямо в центр восстания, надеясь демонстрацией силы сломить дух бриттов. Однако римляне столкнулись с куда более сильными войсками, чем ожидали. Почти все легионеры погибли, попав в засаду, или во время ночной атаки на их лагерь. Спастись удалось только легату легиона и отряду кавалерии.
Тем временем Паулин добрался до Лондиния прежде, чем тот пал, но он не мог спасти город, так как у него был с собой лишь небольшой отряд кавалерии, а практически вся его армия отстала. Немногие беженцы нашли защиту в отряде наместника, но большая часть населения осталась в городе и была убита. Паулин отступил, присоединился к своей главной армии, и в его распоряжении оказалось около 10 000 человек. IX легион сильно пострадал и не мог участвовать в дальнейшей кампании, но наместник послал гонцов, чтобы вызвать другой легион, а именно II Августов (Legio II Augusta), находившийся на юго-западе Британии.
Исполняющий обязанности его командира префект Пений Постум по неизвестной причине не откликнулся на призыв Паулина. Поэтому ему со своими собственными войсками — почти полным XIV легионом «Близнецы» (Legio XIV Gemina), частью XX легиона и некоторыми вспомогательными подразделениями — пришлось противостоять Боудикке, армия которой была во много раз больше.
Паулин выбрал место (точно определить его невозможно), где лесистая теснина давала защиту флангам и тылам римской армии. Ее построение — легионы в центре, вспомогательная пехота на флангах и кавалерия по бокам — было совершенно обычным. Как и Марий возле Акв Секстиевых и Цезарь в борьбе с гельветами, Паулин велел солдатам не двигаться, когда бритты стали наступать. Только в самую последнюю минуту он приказал легионерам метнуть свои пилумы, после чего идти в атаку. Залп тяжелых дротиков лишил бриттов стремительности движения, и они были расположены так плотно после того как вошли в теснину, что не могли отступить. Их войско превратилось в беспорядочную массу, не способную маневрировать и эффективно сражаться. Подобное произошло с римской армией в битве при Каннах.
В этом бою римляне постепенно уничтожили противника. Однако им пришлось заплатить высокую цену за свой успех. В сражении было убито или ранено почти 10% солдат Паулина. В Древнем мире это были серьезные потери для армии-победительницы. За один день основные силы восставших были разбиты. Боудикка бежала и вскоре приняла яд. Паулин и его солдаты провели жестокую карательную экспедицию, чтобы подавить остатки сопротивления. Свирепость римлян в данном случае явилась результатом зверств, совершенных ранее бриттами.
Поражение Боудикки стало одной из самых значительных побед во время правления Нерона. Подразделения, которые участвовали в этой кампании, были вознаграждены новыми боевыми отличиями. XIV легион стал называться Марсов Победоносный (Martia Victrix); XX легион также заслужил название Победоносный (Victrix) за свою службу во время этой кампании.
Восстание Боудикки
В 60 г. значительную часть провинции Британия охватило восстание под руководством царицы Боудикки из племени иценов. Перед самым началом этого бунта легат Гай Светоний Паулин с двумя из четырех легионов, расположенных в провинции, был занят захватом острова Мона (современный Англси) — главного центра культа друидов. Эта религия была одной из немногих, которые римляне пытались искоренить, так как испытывали отвращение ко всем культам, где важную роль играли человеческие жертвоприношения. К тому же друиды способствовали объединению противников Рима в Британии и Галлии.
Пока Паулин был занят штурмом Моны и убийством друидов и их приверженцев, у восставших в восточной части провинции имелось время, чтобы собраться с силами. Колония в Камулодуне (Кольчестер) стала первой целью восставших, ибо местных жителей возмущало, что на конфискованной у них земле селятся римские ветераны после окончания военной службы. Часть ветеранов два дня держала оборону в большом храме Клавдия, но колония не имела соответствующих укреплений, и сомневаться в конечном исходе осады не приходилось. Разъяренные бритты перебили все население города и многих перед смертью пытали и увечили. В последующие недели Веруламий (Сент-Олбанс) и Лондиний (Лондон) постигла та же участь. Археологи обнаружили в каждом из этих мест толстый слой сгоревших останков, относящихся к времени восстания Боудикки.
Первые ответные действия римляне предприняли, когда крупная вексилляция из IX Испанского (Legio IX Hispana) легиона направилась прямо в центр восстания, надеясь демонстрацией силы сломить дух бриттов. Однако римляне столкнулись с куда более сильными войсками, чем ожидали. Почти все легионеры погибли, попав в засаду, или во время ночной атаки на их лагерь. Спастись удалось только легату легиона и отряду кавалерии.
Тем временем Паулин добрался до Лондиния прежде, чем тот пал, но он не мог спасти город, так как у него был с собой лишь небольшой отряд кавалерии, а практически вся его армия отстала. Немногие беженцы нашли защиту в отряде наместника, но большая часть населения осталась в городе и была убита. Паулин отступил, присоединился к своей главной армии, и в его распоряжении оказалось около 10 000 человек. IX легион сильно пострадал и не мог участвовать в дальнейшей кампании, но наместник послал гонцов, чтобы вызвать другой легион, а именно II Августов (Legio II Augusta), находившийся на юго-западе Британии.
Исполняющий обязанности его командира префект Пений Постум по неизвестной причине не откликнулся на призыв Паулина. Поэтому ему со своими собственными войсками — почти полным XIV легионом «Близнецы» (Legio XIV Gemina), частью XX легиона и некоторыми вспомогательными подразделениями — пришлось противостоять Боудикке, армия которой была во много раз больше.
Паулин выбрал место (точно определить его невозможно), где лесистая теснина давала защиту флангам и тылам римской армии. Ее построение — легионы в центре, вспомогательная пехота на флангах и кавалерия по бокам — было совершенно обычным. Как и Марий возле Акв Секстиевых и Цезарь в борьбе с гельветами, Паулин велел солдатам не двигаться, когда бритты стали наступать. Только в самую последнюю минуту он приказал легионерам метнуть свои пилумы, после чего идти в атаку. Залп тяжелых дротиков лишил бриттов стремительности движения, и они были расположены так плотно после того как вошли в теснину, что не могли отступить. Их войско превратилось в беспорядочную массу, не способную маневрировать и эффективно сражаться. Подобное произошло с римской армией в битве при Каннах.
В этом бою римляне постепенно уничтожили противника. Однако им пришлось заплатить высокую цену за свой успех. В сражении было убито или ранено почти 10% солдат Паулина. В Древнем мире это были серьезные потери для армии-победительницы. За один день основные силы восставших были разбиты. Боудикка бежала и вскоре приняла яд. Паулин и его солдаты провели жестокую карательную экспедицию, чтобы подавить остатки сопротивления. Свирепость римлян в данном случае явилась результатом зверств, совершенных ранее бриттами.
Поражение Боудикки стало одной из самых значительных побед во время правления Нерона. Подразделения, которые участвовали в этой кампании, были вознаграждены новыми боевыми отличиями. XIV легион стал называться Марсов Победоносный (Martia Victrix); XX легион также заслужил название Победоносный (Victrix) за свою службу во время этой кампании.
Показать больше
2 годы назад
8 января 1920 года Красная Армия ОСВОБОДИЛА город РОСТОВ-НА-ДОНУ от деникинцев и КРАСНОЯРСК от колчаковцев.
В районе 21.00 8 января, части 4-й дивизии 1-й Конной армии вышли к окраинам Нахичевани, а части 6-й дивизии той же армии — к окраинам Ростова-на-Дону. Ростов обороняли 2 полка конницы и 4 полка пехоты белых. Однако, они не знали как развиваются события на фронте (конница белых сбежала, а пехота была частью уничтожена, частью взята в плен) и были уверены, что Топорков с Мамонтовым успешно громят красных.
Появление на улицах красных конников стало полной неожиданностью. В довершение неразберихи, вслед за красными в город прорвались пробивающиеся из района Больших Салов полки Дроздовской и Корниловской дивизии белых.
Уличные бои продолжались почти сутки и закончились лишь к вечеру 9 января. Уцелевшие силы белых отошли за Дон. Красные войска установили полный контроль над Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, станицей Аксайской. Взято в плен более 10000 солдат белых, 9 танков, 32 орудия, около 200 пулеметов.
В районе 21.00 8 января, части 4-й дивизии 1-й Конной армии вышли к окраинам Нахичевани, а части 6-й дивизии той же армии — к окраинам Ростова-на-Дону. Ростов обороняли 2 полка конницы и 4 полка пехоты белых. Однако, они не знали как развиваются события на фронте (конница белых сбежала, а пехота была частью уничтожена, частью взята в плен) и были уверены, что Топорков с Мамонтовым успешно громят красных.
Появление на улицах красных конников стало полной неожиданностью. В довершение неразберихи, вслед за красными в город прорвались пробивающиеся из района Больших Салов полки Дроздовской и Корниловской дивизии белых.
Уличные бои продолжались почти сутки и закончились лишь к вечеру 9 января. Уцелевшие силы белых отошли за Дон. Красные войска установили полный контроль над Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, станицей Аксайской. Взято в плен более 10000 солдат белых, 9 танков, 32 орудия, около 200 пулеметов.
Показать больше
2 годы назад
Высадка легионеров XIV легиона на остров Англси, 60 г. н.э.
Восстание Боудикки
В 60 г. значительную часть провинции Британия охватило восстание под руководством царицы Боудикки из племени иценов. Перед самым началом этого бунта легат Гай Светоний Паулин с двумя из четырех легионов, расположенных в провинции, был занят захватом острова Мона (современный Англси) — главного центра культа друидов. Эта религия была одной из немногих, которые римляне пытались искоренить, так как испытывали отвращение ко всем культам, где важную роль играли человеческие жертвоприношения. К тому же друиды способствовали объединению противников Рима в Британии и Галлии.
Пока Паулин был занят штурмом Моны и убийством друидов и их приверженцев, у восставших в восточной части провинции имелось время, чтобы собраться с силами. Колония в Камулодуне (Кольчестер) стала первой целью восставших, ибо местных жителей возмущало, что на конфискованной у них земле селятся римские ветераны после окончания военной службы. Часть ветеранов два дня держала оборону в большом храме Клавдия, но колония не имела соответствующих укреплений, и сомневаться в конечном исходе осады не приходилось. Разъяренные бритты перебили все население города и многих перед смертью пытали и увечили. В последующие недели Веруламий (Сент-Олбанс) и Лондиний (Лондон) постигла та же участь. Археологи обнаружили в каждом из этих мест толстый слой сгоревших останков, относящихся к времени восстания Боудикки.
Первые ответные действия римляне предприняли, когда крупная вексилляция из IX Испанского (Legio IX Hispana) легиона направилась прямо в центр восстания, надеясь демонстрацией силы сломить дух бриттов. Однако римляне столкнулись с куда более сильными войсками, чем ожидали. Почти все легионеры погибли, попав в засаду, или во время ночной атаки на их лагерь. Спастись удалось только легату легиона и отряду кавалерии.
Тем временем Паулин добрался до Лондиния прежде, чем тот пал, но он не мог спасти город, так как у него был с собой лишь небольшой отряд кавалерии, а практически вся его армия отстала. Немногие беженцы нашли защиту в отряде наместника, но большая часть населения осталась в городе и была убита. Паулин отступил, присоединился к своей главной армии, и в его распоряжении оказалось около 10 000 человек. IX легион сильно пострадал и не мог участвовать в дальнейшей кампании, но наместник послал гонцов, чтобы вызвать другой легион, а именно II Августов (Legio II Augusta), находившийся на юго-западе Британии.
Исполняющий обязанности его командира префект Пений Постум по неизвестной причине не откликнулся на призыв Паулина. Поэтому ему со своими собственными войсками — почти полным XIV легионом «Близнецы» (Legio XIV Gemina), частью XX легиона и некоторыми вспомогательными подразделениями — пришлось противостоять Боудикке, армия которой была во много раз больше.
Паулин выбрал место (точно определить его невозможно), где лесистая теснина давала защиту флангам и тылам римской армии. Ее построение — легионы в центре, вспомогательная пехота на флангах и кавалерия по бокам — было совершенно обычным. Как и Марий возле Акв Секстиевых и Цезарь в борьбе с гельветами, Паулин велел солдатам не двигаться, когда бритты стали наступать. Только в самую последнюю минуту он приказал легионерам метнуть свои пилумы, после чего идти в атаку. Залп тяжелых дротиков лишил бриттов стремительности движения, и они были расположены так плотно после того как вошли в теснину, что не могли отступить. Их войско превратилось в беспорядочную массу, не способную маневрировать и эффективно сражаться. Подобное произошло с римской армией в битве при Каннах.
В этом бою римляне постепенно уничтожили противника. Однако им пришлось заплатить высокую цену за свой успех. В сражении было убито или ранено почти 10% солдат Паулина. В Древнем мире это были серьезные потери для армии-победительницы. За один день основные силы восставших были разбиты. Боудикка бежала и вскоре приняла яд. Паулин и его солдаты провели жестокую карательную экспедицию, чтобы подавить остатки сопротивления. Свирепость римлян в данном случае явилась результатом зверств, совершенных ранее бриттами.
Поражение Боудикки стало одной из самых значительных побед во время правления Нерона. Подразделения, которые участвовали в этой кампании, были вознаграждены новыми боевыми отличиями. XIV легион стал называться Марсов Победоносный (Martia Victrix); XX легион также заслужил название Победоносный (Victrix) за свою службу во время этой кампании.
Восстание Боудикки
В 60 г. значительную часть провинции Британия охватило восстание под руководством царицы Боудикки из племени иценов. Перед самым началом этого бунта легат Гай Светоний Паулин с двумя из четырех легионов, расположенных в провинции, был занят захватом острова Мона (современный Англси) — главного центра культа друидов. Эта религия была одной из немногих, которые римляне пытались искоренить, так как испытывали отвращение ко всем культам, где важную роль играли человеческие жертвоприношения. К тому же друиды способствовали объединению противников Рима в Британии и Галлии.
Пока Паулин был занят штурмом Моны и убийством друидов и их приверженцев, у восставших в восточной части провинции имелось время, чтобы собраться с силами. Колония в Камулодуне (Кольчестер) стала первой целью восставших, ибо местных жителей возмущало, что на конфискованной у них земле селятся римские ветераны после окончания военной службы. Часть ветеранов два дня держала оборону в большом храме Клавдия, но колония не имела соответствующих укреплений, и сомневаться в конечном исходе осады не приходилось. Разъяренные бритты перебили все население города и многих перед смертью пытали и увечили. В последующие недели Веруламий (Сент-Олбанс) и Лондиний (Лондон) постигла та же участь. Археологи обнаружили в каждом из этих мест толстый слой сгоревших останков, относящихся к времени восстания Боудикки.
Первые ответные действия римляне предприняли, когда крупная вексилляция из IX Испанского (Legio IX Hispana) легиона направилась прямо в центр восстания, надеясь демонстрацией силы сломить дух бриттов. Однако римляне столкнулись с куда более сильными войсками, чем ожидали. Почти все легионеры погибли, попав в засаду, или во время ночной атаки на их лагерь. Спастись удалось только легату легиона и отряду кавалерии.
Тем временем Паулин добрался до Лондиния прежде, чем тот пал, но он не мог спасти город, так как у него был с собой лишь небольшой отряд кавалерии, а практически вся его армия отстала. Немногие беженцы нашли защиту в отряде наместника, но большая часть населения осталась в городе и была убита. Паулин отступил, присоединился к своей главной армии, и в его распоряжении оказалось около 10 000 человек. IX легион сильно пострадал и не мог участвовать в дальнейшей кампании, но наместник послал гонцов, чтобы вызвать другой легион, а именно II Августов (Legio II Augusta), находившийся на юго-западе Британии.
Исполняющий обязанности его командира префект Пений Постум по неизвестной причине не откликнулся на призыв Паулина. Поэтому ему со своими собственными войсками — почти полным XIV легионом «Близнецы» (Legio XIV Gemina), частью XX легиона и некоторыми вспомогательными подразделениями — пришлось противостоять Боудикке, армия которой была во много раз больше.
Паулин выбрал место (точно определить его невозможно), где лесистая теснина давала защиту флангам и тылам римской армии. Ее построение — легионы в центре, вспомогательная пехота на флангах и кавалерия по бокам — было совершенно обычным. Как и Марий возле Акв Секстиевых и Цезарь в борьбе с гельветами, Паулин велел солдатам не двигаться, когда бритты стали наступать. Только в самую последнюю минуту он приказал легионерам метнуть свои пилумы, после чего идти в атаку. Залп тяжелых дротиков лишил бриттов стремительности движения, и они были расположены так плотно после того как вошли в теснину, что не могли отступить. Их войско превратилось в беспорядочную массу, не способную маневрировать и эффективно сражаться. Подобное произошло с римской армией в битве при Каннах.
В этом бою римляне постепенно уничтожили противника. Однако им пришлось заплатить высокую цену за свой успех. В сражении было убито или ранено почти 10% солдат Паулина. В Древнем мире это были серьезные потери для армии-победительницы. За один день основные силы восставших были разбиты. Боудикка бежала и вскоре приняла яд. Паулин и его солдаты провели жестокую карательную экспедицию, чтобы подавить остатки сопротивления. Свирепость римлян в данном случае явилась результатом зверств, совершенных ранее бриттами.
Поражение Боудикки стало одной из самых значительных побед во время правления Нерона. Подразделения, которые участвовали в этой кампании, были вознаграждены новыми боевыми отличиями. XIV легион стал называться Марсов Победоносный (Martia Victrix); XX легион также заслужил название Победоносный (Victrix) за свою службу во время этой кампании.
Показать больше
2 годы назад
Русская пехота в укрытии во время сражения против австро-венгерской армии. Первая мировая война. 1914 г.
2 годы назад
Помню, уже спустя годы после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с красной звездой и со столбцом фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков… Я читал фамилии незнакомых мне людей и когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так часто дышала она мне прямо в лицо.
В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.
В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.
Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:
— То-о-оли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…
Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…
Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.
А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…
А тишину разорвал рев танков. И снова бой.
И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.
Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.
Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.
Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…
…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.
Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.
Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…
Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.
В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.
Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».
Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…
Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.
В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…
После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.
В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка — и на фронт. А возраст — всего девятнадцать.
В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт — харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно: тут «жарко». Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.
Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете — одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи, — другое. Пули бессильны перед броней, но вся броня пехотинца — гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу.
Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал… Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались — проверяли, живы ли. И вдруг:
— То-о-оли-ик!
Обернулся. Алик падает…
Рядом кто-то кричал:
— Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то…
Я бежал не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика… Помню эту первую потерю как сейчас…
Из оставшихся в живых сформировали новый полк — и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.
А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней — неожиданно:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно: как только он выжил в этом огне? Значит, жизнь продолжается…
А тишину разорвал рев танков. И снова бой.
И снова нас с кем-то соединили, и снова — огненная коловерть… Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня… я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом.
Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как люди седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет. Это «прием» войны.
Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства — не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.
Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти…
…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах.
Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.
Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню…
Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты отрыли нас.
В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.
Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».
Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое… Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно…
Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика». Ошибиться было невозможно, одно лицо… Мы переписываемся до сих пор.
В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове — был у нас такой веселый, бесшабашный солдат, этакий стиляга — он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал… Откопали — и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа…» Смотрю — лицо, походка, все похоже…
После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли, комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтером (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе — требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.
Показать больше
При финансовой поддержке
Memes Admin
2 мс. назад