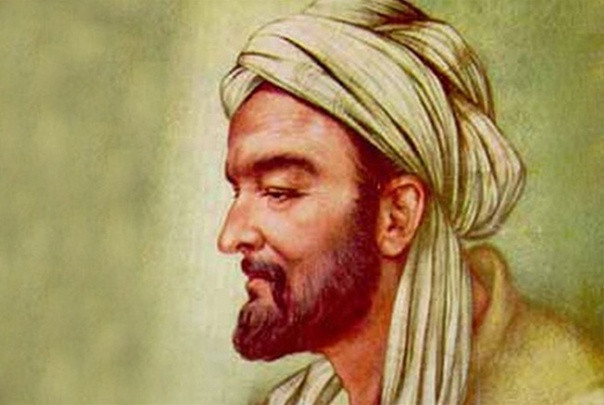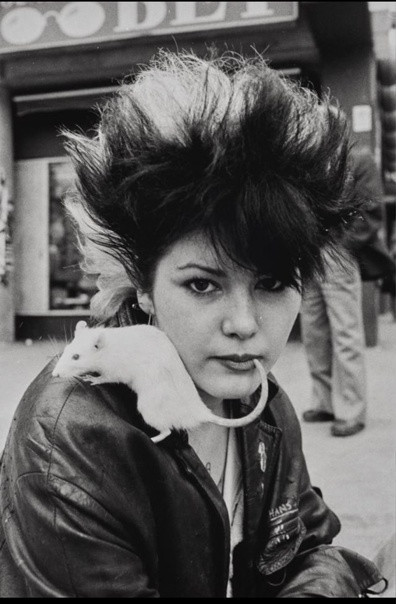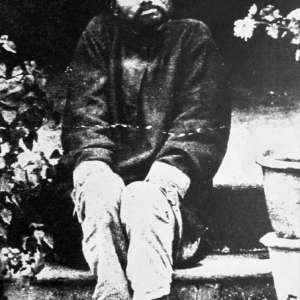Николай Фёдорович Ватутин родился 16 декабря 1901 года в селе Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии в крестьянской семье.
С 1909 по 1915 год он учился в церковно-приходской школе, затем в земском училище города Валуйки. Потом поступил в коммерческое училище посёлка Уразово Валуйского уезда. Но в 1917 году Николаю пришлось прервать обучение и вернуться в родное село. Там он жил и работал до 25 апреля 1920 года, когда его мобилизовали в Красную Армию.
В 1922 году он окончил Полтавскую пехотную школу. И три с половиной года занимал различные командный должности - от командира отделения до начальника полковой школы. После чего в августе 1926 года его направили в Военную академию имени М. В. Фрунзе.
После её окончания в 1929 году Ватутин занимал ряд штабных должностей. А в 1933-34 годах снова продолжил учёбу в Академии им. Фрунзе, но уже на Оперативном факультете. И по его окончанию возглавил штаб стрелковой дивизии.
В марте 1936 года его назначили начальником 1-го Отдела штаба Сибирского военного округа. А в октябре того же года он поступил во вновь созданную Академию Генерального штаба РККА.
Этот первый набор учащихся получил название маршальского курса: из его числа четверо - Василевский А.М., Баграмян И.Х., Говоров Л.А. и Захаров М.В., стали маршалами, пятеро - Ватутин Н.Ф., Антонов А.И., Казаков М.И., Курасов В.В. и Курочкин П.А. - генералами армии, и ещё трое генерал-полковниками - Сандалов Л.М., Боголюбов А.Н. и Трофименко С.Г.. Почти все остальные выпускники стали генералами.
Время их учёбы совпало с периодом массовых репрессий высшего командного состава. Арестованных и расстрелянных военачальников надо было кем-то заменять. Кадров не хватало катастрофически. Поэтому доучиться Ватутину и многим его товарищам не дали и выпустили из академии досрочно.
В июле 1937 года комбрига Ватутина Н.Ф. назначают сначала заместителем начальника штаба, а потом и начальником штаба Киевского Особого военного округа. Здесь и произошла его встреча с генералом армии Г.К. Жуковым, который 7 июня 1940 года возглавил КОВО.
26 июля того же года Ватутина отзывают в Москву и назначают начальником Оперативного управления Генерального штаба. А в январе 1941 года начальником Генштаба назначают Жукова. Так снова пересеклись пути этих двух генералов.
Такая чехарда в назначениях на высшие командные должности вполне объяснима последствиями репрессий. Она же послужила причиной непродуманных кадровых назначений. И сам Жуков, и те, кто его знал, отмечали, что штабная работа была не для него. И назначить его начальником Генерального штаба было не самым лучшим решением Сталина.
А вот генерал-лейтенанту Ватутину Н.Ф. должность 1-го заместителя начальника Ген.штаба пришлась в самый раз. Опытный генштабист, он вполне соответствовал ей. Здесь он и встретил Великую Отечественную войну.
С 22 по 26 июня 1941 года Николай Фёдорович фактически возглавлял работу Генштаба, в то время, как Г. К. Жуков находился на Юго-Западном фронте.
Но вскоре его назначают начальником штаба Северо-Западного фронта. Сдав дела своему бывшему однокашнику по Академии генерал-майору А.М. Василевскому, Николай Фёдорович отправляется в Псков, где тогда находился штаб фронта.
В мае 1942 года в связи с болезнью Б.М. Шапошникова, А.М. Василевский, (уже генерал-полковник) замещает должность начальника Генерального штаба.. Ему нужны опытные штабные работники. И он отзывает Ватутина с фронта в своё распоряжение в Москву.
7 июля 1942 года на совещании в Ставке было принято решение из войск левого крыла Брянского фронта образовать новый Воронежский фронт. Когда встал вопрос о командующем, Н.Ф. Ватутин неожиданно для всех предложил на эту должность себя.
Василевский поддержал это предложение, и 14 июля генерал-лейтенант Ватутин Н.Ф. вступил в командование фронтом. Больше на штабную работу он не вернулся - командовал Юго-Западным, Воронежским и 1-м Украинским фронтами. Во главе этих фронтов участвовал в Воронежской, Сталинградской, Курской, Корсунь-Шевченковской операциях. освобождал Киев.
К середине февраля 1944 года 1-й Украинский фронт закончил Ровно-Луцкую операцию. Примерно за две недели войска освободили большую часть правобережной Украины, включая несколько крупных городов. При таких темпах наступления прифронтовую полосу ещё не успели зачистить от немецких окруженцев и украинских боевиков. Нередко случались нападения на красноармейские обозы.
29 февраля 1944 года Н.Ф. Ватутин объезжал вверенные ему войска, чтобы проверить их готовность к следующей Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. Днём он прибыл в Ровно, где находился штаб 13-й армии генерала Н.Д. Пухова. И оттуда планировал ехать в городок Славута, в штаб 60-й армии генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского.
Для этого был выбран самый короткий и безопасный путь: Ровно - Здолбунов - Острог - Славута. На его доразведку послали студебеккер со взводом автоматчиков. Они проехали весь маршрут и вернулись в Здолбунов, где стали ждать кортеж Ватутина. А в Ровно через посыльного доложили, что путь проверен и безопасен.
В 16 час 30 мин Ватутин закончил работу в Ровно и выехал в штаб 60-й армии в Славуту. Кортеж состоял из четырёх машин - два джипа Додж три четверти во главе и в конце колонны. В каждом из них ехало по пять человек охраны с ручным пулемётом. В середине колонны шли два виллиса. В первом ехали Ватутин и Член Военного Совета Крайнюков. Во втором - порученцы командующего.
И здесь начинаются непонятки. По какой-то причине машины поехали в Славуту не по намеченному маршруту через Здолбунов, где их ждал взвод автоматчиков, а через Новоград-Волынский и Шепетовку. По первому маршруту от Ровно до Славуты 76 километров, по второму - 150.
На полпути к Новоград-Волынскому кортеж вдруг поворачивает на просёлочную дорогу, которая ведёт в Славуту через Милятин. Вероятно, чтобы сократить путь в штаб Черняховского. Но в штабе Пухова знали, что здесь орудуют отряды бандитов . Почему не предупредили об этом Ватутина? Странно.
Перед Милятином в 18.50 машины попадают под обстрел украинских националистов.
Со слов Крайнюкова, бандитов было порядка 350 человек. Они взяли ватутинский кортеж с трёх сторон в клещи и открыли ураганный огонь. В результате чего трое бойцов охраны были убиты, сам Ватутин тяжело ранен в бедро, а его машина сгорела.
Но совсем иную картину происшедшего дают сами бандиты , взятые в плен много позже. По их показаниям, в Милятине в тот день находились 12 бойцов из Славуты и несколько местных - всего не более 20 человек. Перед тем они захватили несколько подвод красноармейского обоза. И когда проверяли их содержимое, увидели приближающиеся машины.
Бой был спонтанным и скоротечным. Бандитки удалось подбить (а не поджечь, как утверждал Крайнюков) виллис Ватутина, который с пробитым колесом так и остался стоять на дороге. Водитель второго виллиса Моноселидзе угнал машину Крайнюкова из-под обстрела и участия в отражении нападения не принимал. Позже за трусость он был предан суду Военного Трибунала.
Когда стрельба стихла, раненого Ватутина перенесли в штабной «додж» и уже на нём вывезли сначала в медсанбат танковой бригады в Гоще, где ему оказали первичную помощь. А затем переправили в армейский госпиталь №506 13-й армии в Ровно.
Водитель командующего Александр Демьянович Кабанов подтвердил, что перестрелка с бандитами была короткой. Также он рассказал, что кроме Ватутина, других пострадавших в этом бою не было. А подбитый ватутинский виллис они забрали на следующий день. Перед тем кто-то пытался его поджечь, обложив соломой. Но не сумел или не успел это сделать.
Но зачем Крайнюкову было утверждать, что машину сожгли. Всё очень просто - при Ватутине была оперативная карта и другие секретные документы. Эти документы и простреленную ватутинскую шинель бандиты обнаружили в подбитой машине. Документы передали руководителю бандформирований Волыни Богдану Козаку (Смоку). А генеральскую шинель из добротного сукна донашивал один из рядовых участников операции.
Вот вам и разгадка мифа о сожжённой машине. Если бы Сталин узнал, что оперативные документы попали в руки врага, не сносить бы головы и Крайнюкову, и Пухову и многим другим, отвечавшим за безопасность командующего. Верховный придавал большое значение секретности предстоящих операций.
А так - документы сгорели вместе с машиной. Это уже другая ситуация, при которой вышеуказанные лица сумели избежать трибунала.
Но вернёмся к раненому Ватутину. В медсанбате ему только перевязали рану. И лишь спустя сутки после ранения в госпитале №506 провели операцию по её первичной хирургической обработке. А на бедро наложили глухую марлевую повязку.
В тот же день К.В. Крайнюков докладывал Сталину, что Ватутин находится в армейском госпитале в г. Ровно и состояние его удовлетворительное. Характер ранения - сквозное пулевое правого бедра с переломом кости. По заключению главного хирурга 13-й армии, ранение хоть и тяжёлое, но не смертельноё. Требуется минимум два месяца на лечение раны.
Также Крайнюков доложил, что врачи настаивают на обязательной эвакуации Ватутина самолётом в Москву.
Но в Москву Николай Фёдорович не попал. Хрущёв убедил Сталина, что рана не опасна, и скоро Ватутин снова возглавит фронт. А пока сам Николай Фёдорович просит оставить его в Киеве под наблюдением местных врачей.
На основании ходатайства Хрущёва, Ватутин остался в Киеве. Но лечили его не в Центральном госпитале, а на даче Никиты Сергеевича. Этот особняк, бывшую усадьбу Бельского, Хрущев сделал своей резиденцией сразу после освобождения Киева.
Он обещал обеспечить здесь должный уход за раненым. И посылал Сталину ежедневные успокоительные отчёты о том, что генерал армии поправляется. Да и сам Ватутин тоже был настроен оптимистически: "Ну, ребята, недолго мне тут отдыхать осталось, скоро обратно, на фронт..."
Но в конце марта состояние его резко ухудшилось, поднялась высокая температура. Хрущёв рассказал врачам, что Ватутин до этого болел малярией - возможно это рецидив болезни. И никаких экстренных мер принято не было.
И лишь через несколько дней был поставлен точны
С 1909 по 1915 год он учился в церковно-приходской школе, затем в земском училище города Валуйки. Потом поступил в коммерческое училище посёлка Уразово Валуйского уезда. Но в 1917 году Николаю пришлось прервать обучение и вернуться в родное село. Там он жил и работал до 25 апреля 1920 года, когда его мобилизовали в Красную Армию.
В 1922 году он окончил Полтавскую пехотную школу. И три с половиной года занимал различные командный должности - от командира отделения до начальника полковой школы. После чего в августе 1926 года его направили в Военную академию имени М. В. Фрунзе.
После её окончания в 1929 году Ватутин занимал ряд штабных должностей. А в 1933-34 годах снова продолжил учёбу в Академии им. Фрунзе, но уже на Оперативном факультете. И по его окончанию возглавил штаб стрелковой дивизии.
В марте 1936 года его назначили начальником 1-го Отдела штаба Сибирского военного округа. А в октябре того же года он поступил во вновь созданную Академию Генерального штаба РККА.
Этот первый набор учащихся получил название маршальского курса: из его числа четверо - Василевский А.М., Баграмян И.Х., Говоров Л.А. и Захаров М.В., стали маршалами, пятеро - Ватутин Н.Ф., Антонов А.И., Казаков М.И., Курасов В.В. и Курочкин П.А. - генералами армии, и ещё трое генерал-полковниками - Сандалов Л.М., Боголюбов А.Н. и Трофименко С.Г.. Почти все остальные выпускники стали генералами.
Время их учёбы совпало с периодом массовых репрессий высшего командного состава. Арестованных и расстрелянных военачальников надо было кем-то заменять. Кадров не хватало катастрофически. Поэтому доучиться Ватутину и многим его товарищам не дали и выпустили из академии досрочно.
В июле 1937 года комбрига Ватутина Н.Ф. назначают сначала заместителем начальника штаба, а потом и начальником штаба Киевского Особого военного округа. Здесь и произошла его встреча с генералом армии Г.К. Жуковым, который 7 июня 1940 года возглавил КОВО.
26 июля того же года Ватутина отзывают в Москву и назначают начальником Оперативного управления Генерального штаба. А в январе 1941 года начальником Генштаба назначают Жукова. Так снова пересеклись пути этих двух генералов.
Такая чехарда в назначениях на высшие командные должности вполне объяснима последствиями репрессий. Она же послужила причиной непродуманных кадровых назначений. И сам Жуков, и те, кто его знал, отмечали, что штабная работа была не для него. И назначить его начальником Генерального штаба было не самым лучшим решением Сталина.
А вот генерал-лейтенанту Ватутину Н.Ф. должность 1-го заместителя начальника Ген.штаба пришлась в самый раз. Опытный генштабист, он вполне соответствовал ей. Здесь он и встретил Великую Отечественную войну.
С 22 по 26 июня 1941 года Николай Фёдорович фактически возглавлял работу Генштаба, в то время, как Г. К. Жуков находился на Юго-Западном фронте.
Но вскоре его назначают начальником штаба Северо-Западного фронта. Сдав дела своему бывшему однокашнику по Академии генерал-майору А.М. Василевскому, Николай Фёдорович отправляется в Псков, где тогда находился штаб фронта.
В мае 1942 года в связи с болезнью Б.М. Шапошникова, А.М. Василевский, (уже генерал-полковник) замещает должность начальника Генерального штаба.. Ему нужны опытные штабные работники. И он отзывает Ватутина с фронта в своё распоряжение в Москву.
7 июля 1942 года на совещании в Ставке было принято решение из войск левого крыла Брянского фронта образовать новый Воронежский фронт. Когда встал вопрос о командующем, Н.Ф. Ватутин неожиданно для всех предложил на эту должность себя.
Василевский поддержал это предложение, и 14 июля генерал-лейтенант Ватутин Н.Ф. вступил в командование фронтом. Больше на штабную работу он не вернулся - командовал Юго-Западным, Воронежским и 1-м Украинским фронтами. Во главе этих фронтов участвовал в Воронежской, Сталинградской, Курской, Корсунь-Шевченковской операциях. освобождал Киев.
К середине февраля 1944 года 1-й Украинский фронт закончил Ровно-Луцкую операцию. Примерно за две недели войска освободили большую часть правобережной Украины, включая несколько крупных городов. При таких темпах наступления прифронтовую полосу ещё не успели зачистить от немецких окруженцев и украинских боевиков. Нередко случались нападения на красноармейские обозы.
29 февраля 1944 года Н.Ф. Ватутин объезжал вверенные ему войска, чтобы проверить их готовность к следующей Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. Днём он прибыл в Ровно, где находился штаб 13-й армии генерала Н.Д. Пухова. И оттуда планировал ехать в городок Славута, в штаб 60-й армии генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского.
Для этого был выбран самый короткий и безопасный путь: Ровно - Здолбунов - Острог - Славута. На его доразведку послали студебеккер со взводом автоматчиков. Они проехали весь маршрут и вернулись в Здолбунов, где стали ждать кортеж Ватутина. А в Ровно через посыльного доложили, что путь проверен и безопасен.
В 16 час 30 мин Ватутин закончил работу в Ровно и выехал в штаб 60-й армии в Славуту. Кортеж состоял из четырёх машин - два джипа Додж три четверти во главе и в конце колонны. В каждом из них ехало по пять человек охраны с ручным пулемётом. В середине колонны шли два виллиса. В первом ехали Ватутин и Член Военного Совета Крайнюков. Во втором - порученцы командующего.
И здесь начинаются непонятки. По какой-то причине машины поехали в Славуту не по намеченному маршруту через Здолбунов, где их ждал взвод автоматчиков, а через Новоград-Волынский и Шепетовку. По первому маршруту от Ровно до Славуты 76 километров, по второму - 150.
На полпути к Новоград-Волынскому кортеж вдруг поворачивает на просёлочную дорогу, которая ведёт в Славуту через Милятин. Вероятно, чтобы сократить путь в штаб Черняховского. Но в штабе Пухова знали, что здесь орудуют отряды бандитов . Почему не предупредили об этом Ватутина? Странно.
Перед Милятином в 18.50 машины попадают под обстрел украинских националистов.
Со слов Крайнюкова, бандитов было порядка 350 человек. Они взяли ватутинский кортеж с трёх сторон в клещи и открыли ураганный огонь. В результате чего трое бойцов охраны были убиты, сам Ватутин тяжело ранен в бедро, а его машина сгорела.
Но совсем иную картину происшедшего дают сами бандиты , взятые в плен много позже. По их показаниям, в Милятине в тот день находились 12 бойцов из Славуты и несколько местных - всего не более 20 человек. Перед тем они захватили несколько подвод красноармейского обоза. И когда проверяли их содержимое, увидели приближающиеся машины.
Бой был спонтанным и скоротечным. Бандитки удалось подбить (а не поджечь, как утверждал Крайнюков) виллис Ватутина, который с пробитым колесом так и остался стоять на дороге. Водитель второго виллиса Моноселидзе угнал машину Крайнюкова из-под обстрела и участия в отражении нападения не принимал. Позже за трусость он был предан суду Военного Трибунала.
Когда стрельба стихла, раненого Ватутина перенесли в штабной «додж» и уже на нём вывезли сначала в медсанбат танковой бригады в Гоще, где ему оказали первичную помощь. А затем переправили в армейский госпиталь №506 13-й армии в Ровно.
Водитель командующего Александр Демьянович Кабанов подтвердил, что перестрелка с бандитами была короткой. Также он рассказал, что кроме Ватутина, других пострадавших в этом бою не было. А подбитый ватутинский виллис они забрали на следующий день. Перед тем кто-то пытался его поджечь, обложив соломой. Но не сумел или не успел это сделать.
Но зачем Крайнюкову было утверждать, что машину сожгли. Всё очень просто - при Ватутине была оперативная карта и другие секретные документы. Эти документы и простреленную ватутинскую шинель бандиты обнаружили в подбитой машине. Документы передали руководителю бандформирований Волыни Богдану Козаку (Смоку). А генеральскую шинель из добротного сукна донашивал один из рядовых участников операции.
Вот вам и разгадка мифа о сожжённой машине. Если бы Сталин узнал, что оперативные документы попали в руки врага, не сносить бы головы и Крайнюкову, и Пухову и многим другим, отвечавшим за безопасность командующего. Верховный придавал большое значение секретности предстоящих операций.
А так - документы сгорели вместе с машиной. Это уже другая ситуация, при которой вышеуказанные лица сумели избежать трибунала.
Но вернёмся к раненому Ватутину. В медсанбате ему только перевязали рану. И лишь спустя сутки после ранения в госпитале №506 провели операцию по её первичной хирургической обработке. А на бедро наложили глухую марлевую повязку.
В тот же день К.В. Крайнюков докладывал Сталину, что Ватутин находится в армейском госпитале в г. Ровно и состояние его удовлетворительное. Характер ранения - сквозное пулевое правого бедра с переломом кости. По заключению главного хирурга 13-й армии, ранение хоть и тяжёлое, но не смертельноё. Требуется минимум два месяца на лечение раны.
Также Крайнюков доложил, что врачи настаивают на обязательной эвакуации Ватутина самолётом в Москву.
Но в Москву Николай Фёдорович не попал. Хрущёв убедил Сталина, что рана не опасна, и скоро Ватутин снова возглавит фронт. А пока сам Николай Фёдорович просит оставить его в Киеве под наблюдением местных врачей.
На основании ходатайства Хрущёва, Ватутин остался в Киеве. Но лечили его не в Центральном госпитале, а на даче Никиты Сергеевича. Этот особняк, бывшую усадьбу Бельского, Хрущев сделал своей резиденцией сразу после освобождения Киева.
Он обещал обеспечить здесь должный уход за раненым. И посылал Сталину ежедневные успокоительные отчёты о том, что генерал армии поправляется. Да и сам Ватутин тоже был настроен оптимистически: "Ну, ребята, недолго мне тут отдыхать осталось, скоро обратно, на фронт..."
Но в конце марта состояние его резко ухудшилось, поднялась высокая температура. Хрущёв рассказал врачам, что Ватутин до этого болел малярией - возможно это рецидив болезни. И никаких экстренных мер принято не было.
И лишь через несколько дней был поставлен точны
Показать больше
2 годы назад
2 годы назад
2 годы назад
Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?
2 годы назад
2 годы назад
2 годы назад
16 декабря 1986 года начался бунт казахов в Алма-Ате, связанный с назначением новым главой союзной республики этнического русского. Декабрьские события в казахской столице стали первым массовым проявлением недовольства на национальных окраинах СССР в горбачевскую эпоху.
События развивались следующим образом: многолетний руководитель Казахской ССР Динмухамед Кунаев, ставленник еще самого Брежнева, просидевший во главе союзной республики почти четверть века, засобирался в отставку. Точнее, его к этому активно подгонял Горбачев, желавший по советской традиции привести свою команду. Предполагалось, что сменщиком Кунаева станет Нурсултан Назарбаев, однако наверху что-то переиграли, и на смену Кунаеву совершенно неожиданно приехал глава Ульяновского обкома Геннадий Колбин.
Ну приехал и приехал, что тут такого, дружба народов же. Но не все так просто — запуская перестройку, Горбачев открыл страшный ларчик со своей собственной погибелью. Назывался этот ларчик — ленинские нормы. Многие, наверное, забыли, но вся перестройка проводилась под лозунгом возврата к ленинским нормам. Дескать, тогда партия была демократичная, без интриг, массовых расстрелов и коррупции. На окраинах идею сразу же подхватили, неспроста все дальнейшие движения, которые способствовали отделению национальных окраин от СССР, мимикрировали под движения в поддержку перестройки.
Так вот, назначение Колбина было в штыки воспринято казахами. Горбачеву прилетело оттуда, откуда он не ждал, ведь возврат к ленинским нормам означал и возврат к ленинской национальной политике, которая де-факто предполагала практически тотальную автономию национальных окраин. Если в ранние ленинские времена еще можно было объяснить присутствие русских в руководстве национальных республик отсталостью этих регионов и отсутствием местных национальных кадров, то к концу 80-х этих кадров было уже в таком избытке, что русские только сидели и чесали затылки: куда бы деться от этих кадров. На окраинах СССР по-прежнему сохранялась огромная рождаемость, а вот смертность уменьшилась в десятки раз. Получилось прямо по Мао: деревня захватывает города.
16 декабря 1986 года на главной площади Алма-Аты стали собираться недовольные казахи с лозунгами о поддержке ленинской национальной политики, недопущения нового 1937 года, автономии, самоопределения и т. д. Первый митинг разогнали, но на следующий день собрался еще более многочисленный. В город были введены войска, начались столкновения. По официальным данным, в беспорядках в городе погибли 3 человека: русский дружинник, забитый толпой, казах из толпы, получивший в стычке с военными серьезные травмы, и русский подросток, зарезанный в автобусе от избытка национальных чувств у местных трудящихся.
На 1986 год Казахская ССР был республикой без национального большинства, а самое крупное меньшинство составляли русские (ок. 40%), казахов было ок. 37%. Алма-Ата, основанная в 1854 году как имперская крепость Верный, была русским городом: русских здесь было около 60%, вместе с украинцами и белорусами — до 65%. Казахов при этом в городе было всего 25%, остальное население составляли различные этнические меньшинства (уйгуры, корейцы, немцы и др.)
Правда, среди казахов ходили слухи о сотнях убитых. Рассказывались даже леденящие душу подробности этих жестоких расправ: якобы их сбрасывали с крыш, чтобы потом оформить как самоубийц, а также вывозили в лес и раздевали догола, оставляя замерзать насмерть. В общем, типичный набор зверств, который всегда легендируется в подобных случаях.
В итоге события были объявлены проявлением буржуазного казахского национализма, было заведено около сотни уголовных дел. Колбин остался главой Казахстана на несколько лет, правда, уже через 2 года его сменил Назарбаев, роль которого в данных событиях так и остается непрояснённой. По одной версии, он был активным противником беспорядков и агитировал за их прекращение, по другим, сыграл значительную роль в их организации.
События развивались следующим образом: многолетний руководитель Казахской ССР Динмухамед Кунаев, ставленник еще самого Брежнева, просидевший во главе союзной республики почти четверть века, засобирался в отставку. Точнее, его к этому активно подгонял Горбачев, желавший по советской традиции привести свою команду. Предполагалось, что сменщиком Кунаева станет Нурсултан Назарбаев, однако наверху что-то переиграли, и на смену Кунаеву совершенно неожиданно приехал глава Ульяновского обкома Геннадий Колбин.
Ну приехал и приехал, что тут такого, дружба народов же. Но не все так просто — запуская перестройку, Горбачев открыл страшный ларчик со своей собственной погибелью. Назывался этот ларчик — ленинские нормы. Многие, наверное, забыли, но вся перестройка проводилась под лозунгом возврата к ленинским нормам. Дескать, тогда партия была демократичная, без интриг, массовых расстрелов и коррупции. На окраинах идею сразу же подхватили, неспроста все дальнейшие движения, которые способствовали отделению национальных окраин от СССР, мимикрировали под движения в поддержку перестройки.
Так вот, назначение Колбина было в штыки воспринято казахами. Горбачеву прилетело оттуда, откуда он не ждал, ведь возврат к ленинским нормам означал и возврат к ленинской национальной политике, которая де-факто предполагала практически тотальную автономию национальных окраин. Если в ранние ленинские времена еще можно было объяснить присутствие русских в руководстве национальных республик отсталостью этих регионов и отсутствием местных национальных кадров, то к концу 80-х этих кадров было уже в таком избытке, что русские только сидели и чесали затылки: куда бы деться от этих кадров. На окраинах СССР по-прежнему сохранялась огромная рождаемость, а вот смертность уменьшилась в десятки раз. Получилось прямо по Мао: деревня захватывает города.
16 декабря 1986 года на главной площади Алма-Аты стали собираться недовольные казахи с лозунгами о поддержке ленинской национальной политики, недопущения нового 1937 года, автономии, самоопределения и т. д. Первый митинг разогнали, но на следующий день собрался еще более многочисленный. В город были введены войска, начались столкновения. По официальным данным, в беспорядках в городе погибли 3 человека: русский дружинник, забитый толпой, казах из толпы, получивший в стычке с военными серьезные травмы, и русский подросток, зарезанный в автобусе от избытка национальных чувств у местных трудящихся.
На 1986 год Казахская ССР был республикой без национального большинства, а самое крупное меньшинство составляли русские (ок. 40%), казахов было ок. 37%. Алма-Ата, основанная в 1854 году как имперская крепость Верный, была русским городом: русских здесь было около 60%, вместе с украинцами и белорусами — до 65%. Казахов при этом в городе было всего 25%, остальное население составляли различные этнические меньшинства (уйгуры, корейцы, немцы и др.)
Правда, среди казахов ходили слухи о сотнях убитых. Рассказывались даже леденящие душу подробности этих жестоких расправ: якобы их сбрасывали с крыш, чтобы потом оформить как самоубийц, а также вывозили в лес и раздевали догола, оставляя замерзать насмерть. В общем, типичный набор зверств, который всегда легендируется в подобных случаях.
В итоге события были объявлены проявлением буржуазного казахского национализма, было заведено около сотни уголовных дел. Колбин остался главой Казахстана на несколько лет, правда, уже через 2 года его сменил Назарбаев, роль которого в данных событиях так и остается непрояснённой. По одной версии, он был активным противником беспорядков и агитировал за их прекращение, по другим, сыграл значительную роль в их организации.
Показать больше
2 годы назад
Его имя Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (980–1037), но в Европе зовут его Авиценна.
Авиценна входит в число людей, оставивших яркий след в истории человечества. Его знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта, великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки.
Трудно перечислить все его таланты. Порой природа являет свои чудеса, чтобы не забывали о её могуществе, и тогда рождаются такие гении как Авиценна.
Он — Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса.
Самая гениальная из его книг – «Канон врачебной науки». Но и другие труды вошли в историю, стали классикой – «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства»…
Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. И когда – в XI веке. Писал Авиценна, как правило, на арабском языке. Но это совсем не означает, что он – часть арабской культуры. Наверно, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, труды его стали достоянием всех цивилизаций.
И, все же, по сей день спорят, чей он. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла сравнительно недавно монография «Ибн Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII столетия о нем шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нем написаны огромные тома, ученые и сейчас пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости.
Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую средневековую литературу. Самой знаменитой его повестью была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной комедии».
Откуда нам известно о человеке, жившем больше 1000 лет назад? От него самого и его любимого ученика. И это, как кажется скептикам, дает почву для сомнений в его гениальности. Совершенно беспочвенный скептицизм! Потому как молва, начиная с XI столетия, бережно хранила память о его талантах, что и дало основание называть его гениальным ученым. До наших дней дошли рассказ самого Авиценны о себе, о своем детстве. Остальное дописал Убайд аль-Джурджани, его любимый ученик, который провел с ним более 20 лет жизни.
Авиценна ( Ибн Сина ) родился в 980 году в небольшом селении Афшана (Средняя Азия) вблизи от Бухары – столицы государства Саманидов. Известно, что по этим местам, чуть северней, прошел великий Александр Македонский.
Он появляется на свет в богатой семье. Отец, Адаллах ибн-Хасан, был сборщик податей. Не самая уважаемая профессия, так сказать, мытарь. Но при этом богат, образован, видимо, неглуп. Известно, что умер отец Авиценны своей смертью, никто его не убил, не зарезал за злодеяния. Мать Ситара (что означает «звезда») родом из небольшого селения близ Бухары Афшана. В этом селении и родился Авиценна. Так звезда родила звезду.
Когда семья переехала в столицу, одаренному мальчику открылся доступ к широким знаниям, ведь на тот момент Бухара являлась образовательным центром, куда активно съезжались различные философы, врачи, поэты для посещения дворцовой библиотеки.
Авиценна еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, удивляя взрослых постоянными вопросами. Маленького всезнайку отправили изначально учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал на протяжении 10 лет.
Параллельно школьной программе Авицена обучался дополнительно грамматике, арабскому языку, стилистике. Когда мальчику исполнилось 10 лет, он уже знал наизусть весь Коран, что согласно убеждениям мусульман считалось наиболее почтенным знаком.
Свое первое образование он получил путем изучения богословия. Позже будущий ученый увлекся светскими науками – математикой, медициной и философией. Уже в возрасте 20 лет Авиценну знали как известного ученого.
После того как пали Сасниды в его родной стране, Ибн Сина путешествовал по дворам персидских князей, служа придворным лекарем. Он пользовался авторитетом среди европейских коллег-врачевателей. Итогом его врачебной деятельности стала фундаментальная работа, энциклопедия по медицине в 5 томах — «Канон медицины». Она вмиг стала популярной и переводилась на иностранные языки, на латыни он переиздавалась целых 30 раз.
Опасаясь стремительно развивающейся популярности Авиценны, мусульманские богословы все время пытались уличить его в атеизме и ереси. Кроме медицинского труда он писал естественно-научные и философские трактаты, стихи на фарси и на арабском языке. Основной темой его творчества были гимн просвещению, вечность материи, гимн науке.
С 18-ти лет Авиценна абсолютно осознанно посвятил свою жизнь занятию наукой. Он много писал, и слава о нем крепла. В 20 лет его приглашают на постоянную службу к хорезм-шаху Мамуну II в Хорезм. Мамун II был одним из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, кого на своем пути повстречал Авиценна. Этого правителя возможно сравнить, пожалуй, с Лоренцо Великолепным. Он тоже собирал при дворе выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая развитие культуры и науки делом первостепенным.
Он, так же как Лоренцо, создал кружок, который назвали Академией Мамуна. Там проходили постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и Бируни, но побеждал как правило Авиценна. Слава его росла, он много работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. Он был счастлив.
И вот тут на его жизненном горизонте появилась роковая фигура – султан Махмуд Газневи, создатель Газневийского султаната. По происхождению он был из числа гулямов, так называли рабов-воинов тюркского происхождения. Вот уж действительно из рабской грязи – в большие князи! Такие люди отличаются особой спесью, обостренным честолюбием, своеволием, распущенностью. Узнав, что в Бухаре собран цвет культуры, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Правитель Хорезма получил приказ: «Немедленно всех ученых ко мне» – туда, в Персию, в нынешний Иран – ослушаться было нельзя.
И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. Какое мужество, какое отчаяние! Ради чего? Чтобы не пойти в услужение к Махмуду, чтобы не унизиться и показать: ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки.
В пустыне его друг умирает от жажды – не перенеся перехода. Авиценна смог выжить. Теперь он вновь оказался в Западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя замечательное литературное созвездие, радостно принял Авиценну. Как похожи между собой деятели Возрождения, будь то в Италии или на Востоке! Для них главное – жизнь духа, творчество, поиски истины. На новом месте Авиценна стал писать свой величайший труд «Канон врачебной науки». Жил он в купленном для него доме – казалось бы, вот оно, счастье!
Однако жажда к перемене мест, страсть к путешествиям, к новизне гнала его всю жизнь с мест насиженных и спокойных. Вечный странник! Он снова ушел, вновь начал странствовать по землям нынешнего Центрального Ирана. Почему не остался у Кабуса? Среди своего круга людей, в своем доме, не зная нужды и гонений?
Около 1023 года он останавливается в Хамадане (Центральный Иран). Вылечив очередного эмира от желудочного заболевания, он получил неплохой «гонорар» – его назначили визирем, министром-советником. Вроде бы, о чем еще можно мечтать! Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что к службе он отнесся честно, тщательно вникал в детали и, как человек чрезвычайно умный и образованный, начал делать реальные предложения по части преобразования системы правления и даже войска – вот что поразительно! Но предложения Авиценны оказались абсолютно не нужными окружению эмира. Там были свои министры обороны! Среди придворных начали плести интриги. Появилась зависть и злоба – ведь врач всегда так близок к правителю! Дело начало принимать плохой оборот, стало понятным, что он в опасности. Какое-то время он скрывался у друзей, но ареста он избежать не смог. А тут сменился правитель, и сын нового правителя захотел иметь Авиценну около себя – слава его была очень велика, а практические медицинские умения хорошо известны. Он провел в тюрьме четыре месяца. Заточение его не было безнадежно тяжким, ему было разрешено писать. Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником снова пустился в путь. И оказался в глубинах Персии, Исфахане.
Исфахан – крупнейший город того времени с населением около 100 000 человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Алла Аддаула. Опять его окружает культурная среда, вновь проводятся диспуты, снова течет сравнительно спокойная жизнь. Тут он очень много работает, много пишет, по объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, временами освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина…
Авиценна торопился. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить, и потому спешил. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. К примеру, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье. Авиценна был убежден, что существуют невидимые переносчики болезней. Но каким зрением он мог их увидеть? Каким? Он говорил о возможности расп
Авиценна входит в число людей, оставивших яркий след в истории человечества. Его знают как врача, философа, математика, музыканта, поэта, великого ученого, труды которого оставлены в 29 сферах науки.
Трудно перечислить все его таланты. Порой природа являет свои чудеса, чтобы не забывали о её могуществе, и тогда рождаются такие гении как Авиценна.
Он — Великий медик, которого можно сравнить с Галеном и Гиппократом, выдающийся естествоиспытатель уровня Галилея, математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. А еще он занимался теорией музыки, и его познания в этом пригодились в эпоху Ренессанса.
Самая гениальная из его книг – «Канон врачебной науки». Но и другие труды вошли в историю, стали классикой – «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства»…
Он был предвестником гуманизма, ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. И когда – в XI веке. Писал Авиценна, как правило, на арабском языке. Но это совсем не означает, что он – часть арабской культуры. Наверно, с самого своего рождения он принадлежал всему миру, труды его стали достоянием всех цивилизаций.
И, все же, по сей день спорят, чей он. Туркестан, на территории которого он родился, Узбекистан, Турция – все эти страны считают Авиценну своим достоянием. В Турции вышла сравнительно недавно монография «Ибн Сина – великий турецкий ученый». Персы в ответ заявляют: «Он наш. Он у нас похоронен. Он был при дворах эмиров». Его присутствие ощущается и в европейской культуре – уже с XII столетия о нем шла молва. Это был человек с всемирной известностью. И таким он остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века отмечалось тысячелетие со дня его рождения, весь мир участвовал в праздновании. О нем написаны огромные тома, ученые и сейчас пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости.
Ибн Сина оказал огромное влияние на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую средневековую литературу. Самой знаменитой его повестью была повесть «Живой, сын Бодрствующего». Некоторые исследователи утверждают, что она влияла на создание Данте «Божественной комедии».
Откуда нам известно о человеке, жившем больше 1000 лет назад? От него самого и его любимого ученика. И это, как кажется скептикам, дает почву для сомнений в его гениальности. Совершенно беспочвенный скептицизм! Потому как молва, начиная с XI столетия, бережно хранила память о его талантах, что и дало основание называть его гениальным ученым. До наших дней дошли рассказ самого Авиценны о себе, о своем детстве. Остальное дописал Убайд аль-Джурджани, его любимый ученик, который провел с ним более 20 лет жизни.
Авиценна ( Ибн Сина ) родился в 980 году в небольшом селении Афшана (Средняя Азия) вблизи от Бухары – столицы государства Саманидов. Известно, что по этим местам, чуть северней, прошел великий Александр Македонский.
Он появляется на свет в богатой семье. Отец, Адаллах ибн-Хасан, был сборщик податей. Не самая уважаемая профессия, так сказать, мытарь. Но при этом богат, образован, видимо, неглуп. Известно, что умер отец Авиценны своей смертью, никто его не убил, не зарезал за злодеяния. Мать Ситара (что означает «звезда») родом из небольшого селения близ Бухары Афшана. В этом селении и родился Авиценна. Так звезда родила звезду.
Когда семья переехала в столицу, одаренному мальчику открылся доступ к широким знаниям, ведь на тот момент Бухара являлась образовательным центром, куда активно съезжались различные философы, врачи, поэты для посещения дворцовой библиотеки.
Авиценна еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, удивляя взрослых постоянными вопросами. Маленького всезнайку отправили изначально учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал на протяжении 10 лет.
Параллельно школьной программе Авицена обучался дополнительно грамматике, арабскому языку, стилистике. Когда мальчику исполнилось 10 лет, он уже знал наизусть весь Коран, что согласно убеждениям мусульман считалось наиболее почтенным знаком.
Свое первое образование он получил путем изучения богословия. Позже будущий ученый увлекся светскими науками – математикой, медициной и философией. Уже в возрасте 20 лет Авиценну знали как известного ученого.
После того как пали Сасниды в его родной стране, Ибн Сина путешествовал по дворам персидских князей, служа придворным лекарем. Он пользовался авторитетом среди европейских коллег-врачевателей. Итогом его врачебной деятельности стала фундаментальная работа, энциклопедия по медицине в 5 томах — «Канон медицины». Она вмиг стала популярной и переводилась на иностранные языки, на латыни он переиздавалась целых 30 раз.
Опасаясь стремительно развивающейся популярности Авиценны, мусульманские богословы все время пытались уличить его в атеизме и ереси. Кроме медицинского труда он писал естественно-научные и философские трактаты, стихи на фарси и на арабском языке. Основной темой его творчества были гимн просвещению, вечность материи, гимн науке.
С 18-ти лет Авиценна абсолютно осознанно посвятил свою жизнь занятию наукой. Он много писал, и слава о нем крепла. В 20 лет его приглашают на постоянную службу к хорезм-шаху Мамуну II в Хорезм. Мамун II был одним из лучших представителей сильных мира сего и, безусловно, лучший из тех, кого на своем пути повстречал Авиценна. Этого правителя возможно сравнить, пожалуй, с Лоренцо Великолепным. Он тоже собирал при дворе выдающихся людей, приглашал их отовсюду и не скупился в деньгах, считая развитие культуры и науки делом первостепенным.
Он, так же как Лоренцо, создал кружок, который назвали Академией Мамуна. Там проходили постоянные диспуты, в которых принимали участие многие, в том числе и Бируни, но побеждал как правило Авиценна. Слава его росла, он много работал, его почитали, признавая во всем его авторитет. Он был счастлив.
И вот тут на его жизненном горизонте появилась роковая фигура – султан Махмуд Газневи, создатель Газневийского султаната. По происхождению он был из числа гулямов, так называли рабов-воинов тюркского происхождения. Вот уж действительно из рабской грязи – в большие князи! Такие люди отличаются особой спесью, обостренным честолюбием, своеволием, распущенностью. Узнав, что в Бухаре собран цвет культуры, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Правитель Хорезма получил приказ: «Немедленно всех ученых ко мне» – туда, в Персию, в нынешний Иран – ослушаться было нельзя.
И тогда правитель Хорезма сказал поэтам и ученым: «Уходите, бегите с караваном, ничем больше я не смогу вам помочь…» Авиценна со своим другом тайком ночью бежали из Хорезма, решив перейти через Каракумскую пустыню. Какое мужество, какое отчаяние! Ради чего? Чтобы не пойти в услужение к Махмуду, чтобы не унизиться и показать: ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки.
В пустыне его друг умирает от жажды – не перенеся перехода. Авиценна смог выжить. Теперь он вновь оказался в Западном Иране. Некий эмир Кабус, сам блестящий поэт, собравший вокруг себя замечательное литературное созвездие, радостно принял Авиценну. Как похожи между собой деятели Возрождения, будь то в Италии или на Востоке! Для них главное – жизнь духа, творчество, поиски истины. На новом месте Авиценна стал писать свой величайший труд «Канон врачебной науки». Жил он в купленном для него доме – казалось бы, вот оно, счастье!
Однако жажда к перемене мест, страсть к путешествиям, к новизне гнала его всю жизнь с мест насиженных и спокойных. Вечный странник! Он снова ушел, вновь начал странствовать по землям нынешнего Центрального Ирана. Почему не остался у Кабуса? Среди своего круга людей, в своем доме, не зная нужды и гонений?
Около 1023 года он останавливается в Хамадане (Центральный Иран). Вылечив очередного эмира от желудочного заболевания, он получил неплохой «гонорар» – его назначили визирем, министром-советником. Вроде бы, о чем еще можно мечтать! Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что к службе он отнесся честно, тщательно вникал в детали и, как человек чрезвычайно умный и образованный, начал делать реальные предложения по части преобразования системы правления и даже войска – вот что поразительно! Но предложения Авиценны оказались абсолютно не нужными окружению эмира. Там были свои министры обороны! Среди придворных начали плести интриги. Появилась зависть и злоба – ведь врач всегда так близок к правителю! Дело начало принимать плохой оборот, стало понятным, что он в опасности. Какое-то время он скрывался у друзей, но ареста он избежать не смог. А тут сменился правитель, и сын нового правителя захотел иметь Авиценну около себя – слава его была очень велика, а практические медицинские умения хорошо известны. Он провел в тюрьме четыре месяца. Заточение его не было безнадежно тяжким, ему было разрешено писать. Выйдя на свободу, он вместе с братом и своим преданным учеником снова пустился в путь. И оказался в глубинах Персии, Исфахане.
Исфахан – крупнейший город того времени с населением около 100 000 человек, шумный, красивый и яркий. Авиценна провел там немало лет, став приближенным эмира Алла Аддаула. Опять его окружает культурная среда, вновь проводятся диспуты, снова течет сравнительно спокойная жизнь. Тут он очень много работает, много пишет, по объему больше всего написано именно в Исфахане. Ученики говорят, что он мог работать ночь напролет, временами освежая себя бокалом вина. Мусульманин, который взбадривает свой мозг бокалом вина…
Авиценна торопился. Как врач и мудрец он знал, что ему немного осталось жить, и потому спешил. То, что он постигал тогда, в те давние времена, кажется невероятным. К примеру, писал о роли сетчатки глаза в зрительном процессе, о функциях головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити, о влиянии географических и метеорологических условий на человеческое здоровье. Авиценна был убежден, что существуют невидимые переносчики болезней. Но каким зрением он мог их увидеть? Каким? Он говорил о возможности расп
Показать больше
2 годы назад
История Дины Саничар начинается с того момента, когда в 1867 году индийские охотники обнаружили в округе Буландшар мальчика примерно шести лет. Сколько времени он провёл в джунглях, живя среди диких животных, никто точно сказать не мог, но, судя по тому, что у мальчика были волчьи повадки и совсем не было социальных навыков – в джунгли он попал в первый год своей жизни.
У мальчика были выдающиеся вперёд зубы, низкий лоб и очень длинные волосы. Он ходил только на четвереньках и выл, как маленький волчонок.
Охотники, которые сначала приняли Дину за дикое животное, опустили ружья – никто из них не собирался убивать маленького ребёнка. Даже если выглядел он не совсем обычным ребёнком, держался от них на безопасном расстоянии и не понимал обращённую к нему речь.
Посовещавшись, охотники решили забрать мальчика с собой и отвести его к людям. Хотя сделать это было не так-то просто: дикий мальчик не давался в руки и рычал. Охотникам потребовалось применить всю свою смекалку, чтобы поймать ребёнка.
Мальчика доставили в сиротский приют миссии Сикандра в городе Агра. Работники приюта дали мальчику имя – Дина Саничар. С языка хинди Саничар переводится как суббота – день, когда он попал в приют. Но часто работники приюта (особенно между собой), называли Дину Мальчик-волк.
Следующие несколько лет работники приюта потратили на то, чтобы привить дикому мальчику хоть какие-то социальные навыки. Они учили его ходить на двух ногах, говорить, читать и писать; но из всего этого Дина освоил лишь хождение на двух ногах. В остальном работники приюта потерпели полное фиаско.
Глава приюта Эрхардт Льюис объяснял это тем, что у мальчика слабоумие, и его мозг не способен усваивать новую информацию. Дина долгое время не понимал обращённую к нему речь, не понимал язык жестов, а свои собственные эмоции он выражал рычанием, воем или другими звуками, характерными диким животным.
Также первое время он предпочитал ходить голышом, грыз кости, чтобы точить зубы, а из еды употреблял только сырое мясо. Остальную же еду, которой его пытались накормить Дина лишь осторожно нюхал, а потом отходил в сторону, так ни к чему и не прикоснувшись. Годы ушли у миссионеров, чтобы приучить Дину носить одежду, самостоятельно одеваться и есть человеческую еду. А ещё кто-то из работников приюта научил его курить сигареты. От этой пагубной человеческой привычки Дину так и не смогли отвадить до конца его дней.
Со временем Дина Саничар всё же научился немного понимать то, что ему говорят, но сам так и не заговорил.
Каким бы редким нам не казался случай Дины Саничар, но в сиротском приюте миссии Сикандра он был далеко не единственным диким ребёнком, найденным в джунглях. Ещё два мальчика и одна девочка также жили там, пытаясь социализироваться в человеческом обществе. Вообще, за годы, что существовал приют, его работники уже перестали удивляться, когда привозили нового ребёнка-Маугли. Для них это стало обыденным явлением.
С одним из таких мальчиков Дина Саничар даже умудрился подружиться. Это был единственный человек, с которым он охотно взаимодействовал.
Дина Саничар умер в 1895 году от туберкулёза в возрасте 35 лет. Несмотря на то, что почти 30 лет своей жизни он провёл среди людей, по сути, он так и не оставил волчьи повадки, подтвердив этим давно известный факт: насколько сильно на нас влияет та среда, в которой мы провели первые годы своей жизни.
История Дины Саничара очень схожа с историей жизни Маугли – книжного мальчика, созданного известным индийским писателем Редьярдом Киплингом. Достоверно неизвестно, был ли Дина Саничар прототипом Маугли, но, скорей всего, Киплинг вдохновился на написание книги либо его историей, либо историей другого ребёнка, также обнаруженного в джунглях.
Ведь в те времена для Индии подобные случаи были не редки.
У мальчика были выдающиеся вперёд зубы, низкий лоб и очень длинные волосы. Он ходил только на четвереньках и выл, как маленький волчонок.
Охотники, которые сначала приняли Дину за дикое животное, опустили ружья – никто из них не собирался убивать маленького ребёнка. Даже если выглядел он не совсем обычным ребёнком, держался от них на безопасном расстоянии и не понимал обращённую к нему речь.
Посовещавшись, охотники решили забрать мальчика с собой и отвести его к людям. Хотя сделать это было не так-то просто: дикий мальчик не давался в руки и рычал. Охотникам потребовалось применить всю свою смекалку, чтобы поймать ребёнка.
Мальчика доставили в сиротский приют миссии Сикандра в городе Агра. Работники приюта дали мальчику имя – Дина Саничар. С языка хинди Саничар переводится как суббота – день, когда он попал в приют. Но часто работники приюта (особенно между собой), называли Дину Мальчик-волк.
Следующие несколько лет работники приюта потратили на то, чтобы привить дикому мальчику хоть какие-то социальные навыки. Они учили его ходить на двух ногах, говорить, читать и писать; но из всего этого Дина освоил лишь хождение на двух ногах. В остальном работники приюта потерпели полное фиаско.
Глава приюта Эрхардт Льюис объяснял это тем, что у мальчика слабоумие, и его мозг не способен усваивать новую информацию. Дина долгое время не понимал обращённую к нему речь, не понимал язык жестов, а свои собственные эмоции он выражал рычанием, воем или другими звуками, характерными диким животным.
Также первое время он предпочитал ходить голышом, грыз кости, чтобы точить зубы, а из еды употреблял только сырое мясо. Остальную же еду, которой его пытались накормить Дина лишь осторожно нюхал, а потом отходил в сторону, так ни к чему и не прикоснувшись. Годы ушли у миссионеров, чтобы приучить Дину носить одежду, самостоятельно одеваться и есть человеческую еду. А ещё кто-то из работников приюта научил его курить сигареты. От этой пагубной человеческой привычки Дину так и не смогли отвадить до конца его дней.
Со временем Дина Саничар всё же научился немного понимать то, что ему говорят, но сам так и не заговорил.
Каким бы редким нам не казался случай Дины Саничар, но в сиротском приюте миссии Сикандра он был далеко не единственным диким ребёнком, найденным в джунглях. Ещё два мальчика и одна девочка также жили там, пытаясь социализироваться в человеческом обществе. Вообще, за годы, что существовал приют, его работники уже перестали удивляться, когда привозили нового ребёнка-Маугли. Для них это стало обыденным явлением.
С одним из таких мальчиков Дина Саничар даже умудрился подружиться. Это был единственный человек, с которым он охотно взаимодействовал.
Дина Саничар умер в 1895 году от туберкулёза в возрасте 35 лет. Несмотря на то, что почти 30 лет своей жизни он провёл среди людей, по сути, он так и не оставил волчьи повадки, подтвердив этим давно известный факт: насколько сильно на нас влияет та среда, в которой мы провели первые годы своей жизни.
История Дины Саничара очень схожа с историей жизни Маугли – книжного мальчика, созданного известным индийским писателем Редьярдом Киплингом. Достоверно неизвестно, был ли Дина Саничар прототипом Маугли, но, скорей всего, Киплинг вдохновился на написание книги либо его историей, либо историей другого ребёнка, также обнаруженного в джунглях.
Ведь в те времена для Индии подобные случаи были не редки.
Показать больше
При финансовой поддержке
Memes Admin
4 мс. назад